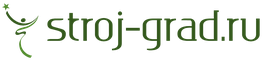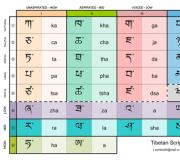Стихи Дмитрия Быкова: Драйвовое
Монолог вымышленного лица.
Кто за Собчак — того я ненавижу. И сам бы я ее не выбирал, поскольку вряд ли сам себя унижу прозванием «системный либерал», — и остальных, кто вслух уже доволен подобной конкуренцией Кремлю, всех встроенных, как Познер или Долин, — я тоже очень сильно не люблю. Я даже не пойму, о чем мы спорим, войдя в такой электоральный цикл: мучительно не то, что это спойлер, позорней сознавать, что это цирк.
Кто за Собчак? Кто сам уже обгрызен, с кем много раз публично подрались, кто на закланье впущен в телевизер и там изображает плюрализм; кто призван объяснять широким массам, что массы сами Путину под стать; кто клоуном нанялся к пупарасам, чтоб пупарасом в клоунах не стать. Ужасно быть сегодня Петербургом, родившим и тирана, и Собчак. На ней уже топтался даже Ургант, который сам из Питера, пошляк.
Кто против — тех я тоже ненавижу. Не знаю, как им всем не надоест — кто, надрываясь, наживая грыжу, изображает искренний протест. Как ненавидят эти маргиналы, кому страна отнюдь не дорога, — всех тех, кто федеральные каналы включает, просто чтобы знать врага! Как ратуют дрожащими губами за «Яблоко», чей лидер несравним с любым другим! Они зовут рабами всех тех, кто дышит воздухом одним с диктатором. Они грехи чужие считают и твердят: «Пробили дно». Они живут обычно не в России, хотя в России тоже их полно. Их роль ничтожна. Их протест — щекотка. Вся их среда — гламурная Москва. Собчак для них — лояльная кокотка, пропутинская шваль из «Дома-2», мне глубоко противно их злорадство, уменье жить безбедно и легко — Собчак хотя бы любит подставляться, а эти безупречны, как Дзядко.
Саму Собчак я тоже ненавижу. Ликует, драму в хохму превратив! Кто любит эту лошадь, эту лыжу?! Ей что дебаты, что корпоратив. От критики она не затоскует, ей по фигу народная молва, она ничем при этом не рискует, — не больше, чем когда-то в «Доме-2».
Ее семья была небезупречна, она же хуже собственной семьи, а крестный попросил ее, конечно, — и будьте-здрасьте, крестный, мы свои.
В тринадцатом, в разгар иных событий, он к ней вражду известную питал, — но нынче помогает нарастить ей серьезный статус, то есть капитал. Коль знаешь — сомневаться некрасиво, как говорил Станислав Ежи Лец; ждать от нее какого-то прорыва способен лишь дурак или подлец. Вот послевкусье путинского яда, нахального, разнузданного зла! На этом фоне даже Хакамада как будто ничего себе была.
Пора признаться, рожу скосоротив: мне надоел посмертный этот бал, я ненавижу всех, кто за и против, а тех, кто воздержался, я вообще*. Все выродилось так на этом свете, что падает последний мой редут, и мне уже неважно, те иль эти потом на место Путина придут. Я думаю, история осудит и тех, и этих, ибо всё фигня, и после никого уже не будет — ни тех, не этих тоже… и меня, заслуженного общего изгоя. Проявится какой-то новый класс, и будет что-нибудь совсем другое, нисколько не похожее на нас. Покуда это будущее — в нетях, за темным горизонтом бытия… Но если ты похеришь тех и этих, то, Господи, готов не быть и я.
На «Красном октябре», поймав момент, блеснул Медведев. Там теперь Октябрик: есть правда в том, что бывший президент явился на одной из бывших фабрик. Сам повод мне казался пошловат: все сдал, что можно, - так чего бы ради? Там делали когда-то шоколад – теперь собрались те, что в шоколаде (кто отбирал героев – не пойму, но это явно был коварный демон), и стали хором объяснять ему, как правильно он делал все, что делал, как твердо гнул он линию свою, сдаваясь в главном, побеждая в малом… А в это время Путин интервью давал в Барвихе трем телеканалам: зачем – не знаю. Видимо, затем, чтоб местной узаконенной малине по-прежнему мерещился тандем, хотя тандема не было в помине.
Сюжет, достойный Агнии Барто, хоть, в сущности, не стоящий полушки. Что он сказал? – а то из вас никто не рассказал бы этого получше! Сигналов новых он не подавал, ничто не предвещало холиваров. Там был из Златоуста сталевар, точнее, златоуст из сталеваров, сияющий, как свежий апельсин, и сообщивший несколько манерно, что летом у него родился сын (стараньями Медведева, наверно). Там был Минаев, рыхлый наш акын, изрекший пару лозунгов протухлых, - он хвалит власти с рвением таким, с каким ругать их принято на кухнях. Весь интернет наизгалялся всласть – на этот подвиг мы всегда готовы. Все повторяли: «Не бросайте власть!». Медведев возмущался: «Что вы, что вы!». О чем писать эпистолу свою – я сам не знал и вглядывался паки, но в это время свежую струю внесла в беседу Тина Канделаки. Сперва она поведала о том, что друг ее, успешный англичанин, себе обрел в России новый дом (должно быть, этот юноша отчаян!): свою судьбину в клочья изодрав, он ринулся сюда, и это здраво. «В одной России есть сегодня драйв! В России невозможно жить без драйва!».
Вот вещь, непостижимая уму, но внятная любому в той клоаке: у нас в стране успех придет к тому, в ком будет драйв, сказала Канделаки. И вот, припомнив свой банальный лайф, в порожнее текущий из пустого, - я начал думать: что такое драйв? Как люди понимают это слово – вот эти все, собравшиеся там с какой-то целью, а не ради кайфа, которые резвы не по летам и веселы вообще неадекватно? В конце концов, английский мне знаком, но, отличаясь от меня-изгоя, они другим владеют языком, и «драйв» там значит что-нибудь другое. Страна полна печалей и злодейств, каких не выжечь никаким глаголом, - так как мне этим драйвом овладеть, чтоб стать таким же свежим и веселым? И что есть драйв? Уменье сочетать утробный юморок с напором лести? Уменье врать? Уменье не читать? Искусство с криком «Марш!» бежать на месте? Отыскивать в безжизненности нерв, швыряя в несогласного каменья, умеет весь медведевский резерв; боюсь, что это все его уменье. Науку эту я не угрызу, до светлых их вершин не доползу я: на выпученном радостью глазу там виден отблеск явного безумья. Он и в глазах Медведева блистал. Прошу не плакать чересчур ранимых, - нам четко явлен был Медведев-style: манера улыбаться на руинах. В конце концов, когда царит развал, чем утешаться Родине, чего там… «Почаще улыбайтесь», - он призвал. Зачем? Чтоб стать готовым идиотом? Но это вправду новая волна: держаться надо весело и серо. Натужным ликованием полна у них теперь любая атмосфера: шахтер, боксер, свинарка и пастух, ведущий, сталевар и их хозяйва – все пялят зенки, все смеются вслух, и этот общий смех – основа драйва. Врут, что у нас возможностей нема – у нас их край буквально непочатый: утратить стыд, шутя сойти с ума, попасть бесплатно в год семидесятый… Воистину, уж если мы хотим тут выжить и попасть при этом в ящик, то лживый жизнерадостный кретин – достойный и внушительный образчик.
А прочие – уже любых кровей, - почувствовав, куда несет стихия, все чаще выбирают drive away.
Точнее даже – drive away from here.
Соратник — отвратительное слово. Его теперь везде встречаю я. Оно как будто знак всего плохого: напыщенности, пафоса, вранья. Словечко это в нынешнем формате себя дискредитирует само: соратники — у тех, кто любит рати, а любят их не ратники, а чмо. Подобный сленг употребляют сдуру, чтоб веса аппаратного набрать, лишь те, кто видит жизнь, литературу и русских — как одну большую рать. Такие никогда не понимали, что значит вкус; и перли напролом. Недаром же у Розановой Марьи «Нас рать!» висит над письменным столом.
Союзник — тоже слово не из лучших. Им прикрывают ложь и кумовство. (Есть более приличное — попутчик, — но РАПП скомпрометировал его). Оно гнетет каким-то долгом, грузом, какой-то подневольностью к тому ж: не знаю, что такое — брат по узам. Супружеские узы — тоже чушь. Один российский царь, напрягши мускул, сказал, коль современник нам не врет, что только два союзника у русских, и эти двое — армия и флот; и этот слоган воспевают музы, и лидер видит в нем девиз страны… Сегодня к нам никто не хочет в узы. Лишь нефть и газ… но тоже неверны.
Сотрудник — подозрительное слово. Мне как-то от него не по себе. Оно не значит ничего другого, как тайный соработник КГБ. Среди сомнений тягостных подспудных приглядываясь к некоторым тут, бывало, спросишь: это не сотрудник? В ответ тебе уверенно кивнут. И кстати, труд — не главное занятье в Господнем ослепительном ряду, а наше первородное проклятье, и я не верю в братство по труду.
Есть слово неприятное «коллега». Само оно неплохо, но, увы, — его употребляет суперэго, что тут у нас на должности главы. В войсках, на рыболовном ли ковчеге, в гостях и дома, в тундре и в Крыму — ко всем он обращается «коллеги»; но мы же не коллеги же ему! Я не желаю чуждого ночлега, от бегства, так сказать, спаси Аллах, — но я ему нисколько не коллега в его весьма сомнительных делах. Когда минуют эти передряги и ночь уступит первому лучу, его коллеги будут все в Гааге, а я там не бывал и не хочу.
Во временах счастливых и несчастных, пригодных для проклятий и поэм, мне симпатично слово «соучастник». Оно тут применяется ко всем. Отечество вошло неудержимо в глубокий клинч, как предсказал Немцов: одни тут соучастники режима, другие — соучастники борцов. А третьих нет. Такой расклад бедовый у нас осуществился наяву. И потому — я соучастник «Новой» и вас к тому же самому зову.
История не знает слова «жалость». Здесь нету индульгенций для меньшинств. Ты воздержался (или воздержалась)? Отнюдь. Ты соучастник. Распишись. Увы, нейтралитета больше нету. Альтернатива — лишь небытие.
И вот — я выбрал «Новую газету» и числюсь соучастником ее.
Вложись в нее. К чему тебе посредник? Надежнее вложенья нынче нет. Я сам — ее сотрудник, «Собеседник» (где тоже соучастник тридцать лет). Нет выбора, коллеги. Жребий брошен. Зову вас русским стансовым стихом: давайте соучаствовать в хорошем.
Иначе все окажемся в плохом.
С апреля по июнь 1987 года в «Дружбе народов» печаталась первая часть главного романа Анатолия Рыбакова. Первая - потому что Рыбаков задумал трилогию. Вместо трех томов получилось четыре - вторая часть, посвященная террору, разрослась. Последний военный том, «Прах и пепел», был закончен в 1994 году и прошел почти незамеченным. Рыбаков осуществил свой давний замысел к восьмидесяти трем годам - случай, почти не имеющий аналога в мировой литературе.
Впрочем, когда автор набредает на свою золотую жилу, он работает с фантастической производительностью: с 1955 по 1968 год Трифонов написал два далеко не лучших своих романа, а с 1969 по 1981 почти ежегодно выпускал по шедевру. Нагибин проходил в хороших советских беллетристах до «Терпения», а в последние десять лет жизни опубликовал шесть исповедальных книг непредсказуемой мощи. Рыбаков начал писать «Детей Арбата» в 1966 году, но тогда шансов на публикацию не было, даром что книгу анонсировал «Новый мир».
В начале девяностых он, восьмидесятилетний старик со ссыльным и фронтовым опытом, написал все, о чем молчал пятьдесят лет; и хотя «Тяжелый песок» - вероятно, высшее его художественное свершение - уже взорвал его репутацию «правильного» советского прозаика, подлинную всемирную славу создал ему роман о Саше Панкратове. Проблема в том, что книга эта - как и большинство тогдашних шумных публикаций - осталась непрочитанной; когда роман дают на одну ночь, его ждет участь «Доктора Живаго». Ведь и «Доктора» у нас по-настоящему понимают единицы - остальные до сих пор не понимают, из-за чего сыр-бор.
Перестроечную литературу - не только напечатанную, но главным образом написанную тогда, то есть и «Невозвращенца», и «Не успеть» (другого Рыбакова, петербургского), и «Страх», - самое время перечитать сейчас: с учетом того нового, что мы знаем о себе. Потому что путинская эпоха может во многих отношениях казаться потерянным временем, но в одном оказалась прорывной и даже революционной: Россия узнала о себе много интересного, отказалась от многих беспочвенных надежд и навязанных представлений, по некоторым направлениям достигла дна, по другим прошла точку невозврата. Короче, как сказал мне один приятель из числа пролетариев, а вовсе не гуманитариев, - мы пережили откровение. С точки зрения этого откровения многие перестроечные тексты, носившие на себе отпечаток советской наивности, перечитывать немыслимо: русская хтонь оказалась поглубже советского террора и за семьдесят лет советской власти никуда не делась.
Но Рыбаков уцелел, и больше того - его тетралогия сегодня бесценна, потому что в эпоху начавшихся споров о советском проекте, о соотношении модернизма и азиатчины в тридцатые годы всякое прямое свидетельство приобретает особый вес. А его свидетельство - правда из первых рук, потому что, родившись в 1911 году, он принадлежал к первому советскому поколению и видел, как оно вытеснялось совершенно другими людьми.
Тетралогия Рыбакова - не только и не столько о Сталине, хотя именно сталинские главы читались тогда с особенно жгучим любопытством. Его интересовала именно судьба поколения. (Странно, что Окуджава, исполняя неожиданно траурного «Веселого барабанщика», говорил: «Из нее сделали пионерскую песенку, но это песня о нашем поколении»; любопытно, что Окуджава и Рыбаков сегодня особенно ненавистны православным патриотам, хотя ничего неожиданного тут нет). Он считал долгом довести роман до войны, до гибели Саши и Вари - не потому, что спешил оседлать волну успеха, потому что в 80 лет человека не так волнует успех, да и гонораров за всепланетные переиздания «Детей» ему хватило бы на безбедную старость; ему важно было показать, что поколение советского модерна уничтожалось целенаправленно и безжалостно, и война играла тут не меньшую роль, чем террор; в сущности, она и есть самый беспощадный вид террора.
Люди, уделом которых была грандиозная переделка мира, спасение его из цивилизационного тупика, были брошены в эти две топки за каких-то десять лет и в подавляющем большинстве истреблены; выживших хватило на оттепель, но и оттепель захлебнулась. А в конце восьмидесятых Рыбакова готовы были чтить, но не читать.
Тетралогия-то на самом деле вовсе не о Сталине. Она о том, как новые люди вытесняются старыми; вот Саша Панкратов - не лишенный, конечно, множества пороков, властолюбивый, иногда жестокий (вспомним, как он выгнал малолетнего хулигана из пионерлагеря, отлично зная, что дома его страшно изобьет отец; вспомним и проницательный взгляд этого отца, в котором Саша прочтет потом свой приговор). Он догматик, пожалуй, и в коммунизм верит, и собственной силой наслаждается, и в оценках бескомпромиссен, почему и становится в школе комсомольским секретарем. Но он человек того нового типа, о котором мечтали не только революционеры, народники, террористы, не только дитя вымечтанной русской утопии, - он как раз и воплощение русского модерна, потому что для него работа важнее жизни, потому что для него человек стоит столько, сколько он умеет, а врожденные признаки, национальность, корни, традиция - не значат для него ничего. Отступить для него - позор. И Рыбаков с наслаждением изображает силу, упрямство и волю этого героя.
Однако в ссылке до Панкратова доходит самое страшное - ключевые слова сказаны в шестой главе третьей части: «Идеей, на которой он вырос, овладели баулины, лозгачевы, столперы, они попирают эту идею и топчут людей, ей преданных. Раньше он думал, что в этом мире надо иметь сильные руки и несгибаемую волю, иначе погибнешь, теперь он понял: погибнешь именно с сильными руками и несгибаемой волей, ибо твоя воля столкнется с волей еще более несгибаемой, твои руки с руками еще более сильными - в них власть. Для того чтобы выжить, надо подчиниться чужой воле, чужой силе, оберегаться, приспособляться, жить как заяц, боясь высунуться из-за куста, только такой ценой он сможет сохранить себя физически. Стоит ли так жить? »
Советская власть была властью людей, которые сами себя воспитывали, - такие эпизоды есть и в «Детях Арбата», где Саша тренирует волю, прыгая с обрыва, и в «Доме на набережной», где герои побеждают страх высоты. А стала властью слабых, приспособившихся, подчинившихся. Собственно, это перерождение и есть тема «Детей Арбата». Это история о том, как идеями и лозунгами модернистов овладевают люди архаики: все внутренние монологи Сталина - как раз об этом. Он верит в силу - и ненавидит сильных: безликая власть, безликая воля - его идеал. Те, кто не ломается, - потенциальные враги. Все это казалось простым и очевидным, когда вышел роман Рыбакова: были живы люди, помнившие то поколение, люди, имевшие советский опыт. Но сегодня мы сталкиваемся с грандиозной подменой: любая революция объявляется самоубийственной, любая сила - насилием, любой модерн - обреченным. Хорошо только то, что имеет глубокие корни, что освящено вековым опытом.
Любопытно, что на этом сходятся путинисты с либералами, западники со славянофилами: надо приноравливаться к собственной истории, угождать большинству, исходить из данностей. Но роман Рыбакова - как раз об этом! Он о том, как Сталин победил реформаторов, сделав ставку на эти самые данности: на то, к чему народ привык, на отказ от исторического усилия. Поколение Панкратова ломает матрицу - но Сталину именно эта матрица и угодна. Сейчас Ленина пытаются представить прежде всего тираном, забывая о том, что тирания не была для него самоцелью.
Все мы сегодня повторяем одну и ту же мантру: любая российская власть обречена перерождаться, здесь можно построить только империю, давайте же оптимизировать эту империю, потому что здесь никогда не будет иначе… Здесь уже бывало иначе, тому порукой поколение «детей Арбата»; но самосохранение системы потребовало сначала придавить этих детей террором, а потом вырубить войной. И войну они выиграли, как и показывает Рыбаков в четвертом томе, но заплатили за это жизнью. Когда говорят о том, что войну выиграли, завалив мясорубку мясом, - соглашаются, в сущности, с теми, кто выше всех добродетелей ставит русскую жертвенность. Нет, войну выиграла новая страна, у которой были другие, непривычные ценности и мотивации, но и эту победу умудрились отобрать, хотя на память о ней ссылаются беспрерывно. Войну выиграли те самые ценности, которые сегодняшняя российская власть отрицает и которых смертельно боится. Более антисоветской власти, чем нынешняя, в России не было и не будет. Это власть Шароков - Юра Шарок предсказан у Рыбакова с поразительной точностью, это Шароками наводнена нынешняя Россия, они в ней повсюду, и главная беда не в том, что они воруют, а в том, что у них нет лица.
Единственный доступный им способ воспитать массу - страх. Вся книга Рыбакова - важнейшее лекарство от страха, она пронизана ненавистью к нему, к любой несвободе. То, что вся Россия, вся ее мораль, энтузиазм, подвиги и представления о чести держатся на тюрьме и каторге, на ссылке и слежке, на допросах и анкетах, - показано у Рыбакова с невероятной отчетливостью. Ни одна революция в России не была по-настоящему успешной потому, что не было взятия Бастилии: каждый победитель торопится набить тюрьмы своими оппонентами, прежними властями.
Ужас тюрьмы, ссылки, лагеря - лейтмотив книг Рыбакова, главная тема размышлений Сталина в этих книгах. И в этом его главная заслуга, а вовсе не в изобре тении формулы «Нет человека - нет проблемы»: это всего лишь переделанная чекистская поговорка «Нет тела - нет дела». Гораздо важнее пафос рыбаковской ненависти к тюрьмам и слежке, и именно «Россия без тюрем!» должна стать главным лозунгом новой утопии. И как страх тюрьмы объединяет здесь всех - так и ненависть к этому въевшемуся тюремному духу, к пайке и бушлату, к стукачеству и кайлу будет объединять всю новую Россию независимо от политических убеждений, как всех вечно спорящих ссыльных во второй части романа Рыбакова объединяет ненависть к ссылке.
Разумеется, перечитывать Рыбакова сегодня многим неприятно. Эти многие будут ругать Рыбакова за суконный стиль и «примитивную драматургию», как написал один критик в статье про «Детей Арбата», специально подчеркнув, что перечитывать их он не намерен. А зря - полезная книга. Понятно, что вспоминать сегодня советский опыт проще всего, отождествляя его с цензурой и репрессиями, но при цензуре и репрессиях такая книга могла быть написана, а сегодня ее появление исключено, не потому, что страшно, а потому, что незачем.
Ведь так лень, так неохота еще раз напрягаться! Ведь кончится все равно или Сталиным, или Путиным, или Кадыровым! Ведь в России всегда так было! И повторяют это с одинаковым энтузиазмом и самоназначенные русофилы, и назначенные ими русофобы, и стар, и млад, и лев, и прав. Но Варя Иванова и Саша Панкратов были, и никто уже после Рыбакова не сможет их стереть из истории. Они были и всем своим опытом, своей свободой - да, в том числе и сексуальной, - своей силой и решимостью, своим умом и гордостью отрицали империю. Они строили другую страну и были ее гражданами. Тогда, чтобы истребить их, понадобилась пятилетняя война, страшнейшая в истории человечества, и ни с чем не сравнимая сталинская опричнина. Что понадобится сейчас - не знаю. Но у новых детей - а они похожи на Панкратова - есть по крайней мере «Дети Арбата», и если они вовремя прочтут эту книгу, то уже не дадут задурить себе голову.
Разумеется, обозвать меня совком очень просто. Упрекнуть в попытках реанимировать ГУЛАГ - того проще. Но иногда стоит задуматься, зачем моим оппонентам это нужно. Их не интересую я - я им ничем не мешаю, хотя на моем фоне, возможно, им трудно чувствовать себя самыми умными. Но это еще можно стерпеть, и дело отнюдь не во мне. Дело в том самом отказе от исторического усилия, который губит сегодня все российские начинания; в страхе перед любым лидером - потому что он неизбежно станет тираном; в отказе от поступка - потому что все будут только смеяться, а героизма не оценит никто… Слабость, трусость и подлость кажутся победителями, абсолютными чемпионами. Чтобы справиться с ними, нужен исключительно сильный витамин. В книге Рыбакова этот витамин есть.
По-моему, для бессмертия этого достаточно. Рыбаков был атеистом, как и его герои, и потому собственная фамилия вряд ли казалась ему метафорической или, не дай Бог, символической. Но апостолы - первые люди новой эры - были из рыбаков, и этот опыт не в последнюю очередь помог им стать ловцами человеков.
Если человеков не ловить, они так и останутся скотами.
Дворовый романс*.
«МЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО, К СОЖАЛЕНИЮ, ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРИДУМЫВАТЬ, КАК УЛУЧШАТЬ И ВЫВОДИТЬ ОТНОШЕНИЯ ИЗ ТУПИКА, ОТВЕЧАТЬ ЗЕРКАЛЬНО».
Мария Захарова
Как-то хочется мер радикальных в нашей бурной гибридной войне, как-то хочется санкций зеркальных, симметричных мечтается мне! Полюбила ты, падла, другого — лох и ботан, пардон и мерси, — говоришь: не ходи ко мне снова, не ходи и цветов не носи! Я пойду тебе, сука, навстречу в нашей общей гибридной борьбе, я тебе симметрично отвечу, я зеркально отвечу тебе — позабудь меня, гнусная цаца, я теперь тебе классовый враг, не ходи ко мне больше встречаться, несмотря что не ходишь и так!
Мне не важно, кому ты и где ты, — хоть араба, хоть негра ласкай: не таскай мне, зараза, конфеты и в коробке духи не таскай. Не корми меня в нашей столовой, я к подачкам твоим не готов, и гитарой своею дворовой не шугай моих жирных котов, не ходи с серенадой своею под подвальное наше окно, несмотря что котов не имею, но зато тараканов полно.
Посреди твоих прелестей знойных, — я их помню, хотя я изгой, — между ног твоих длинных и стройных наблюдается нынче другой. С новым мужем ты селфишься в блоге, с новым мужем ломаешь кровать, свои длинные стройные ноги мне уже не даешь целовать. Я зеркально отвечу в итоге, я жестоко тебе отомщу, свои толстые грязные ноги целовать я тебе запрещу. И в утехах своих буржуазных в санкционной войне половой ты без ног моих толстых и грязных будешь биться об пол головой!
— Я устала от пьяного блева! — гордо морщишь ты рожу свою. Что ж, пускай тебе будет хреново, я в ответ у себя наблюю. И в соитье своем безотрадном пусть долбит тебя скучный еврей, но блевать в моем пыльном парадном ты теперь симметрично не смей, никогда меня в лифте не лапай, у дверей не устраивай драк и на стенах моих не царапай свое грязное пошлое «fuck».
Отдавайся ты хоть эфиопу, раз не нужно тебе гопоты. Я любил ущипнуть твою попу, чтоб с игривостью взвизгнула ты, — но уж раз мы скатились к окопу и к войне откровенной такой, запрещаю щипать мою попу и одной, и другою рукой! Сам щипать себя буду за попу, сам до крови себя исщиплю, все стерплю, уподобясь холопу, а тебя я уже не люблю.
Не смеши моего искандера, и пускай он не знает манер — у другого и деньги, и дело, у меня же один искандер. И когда ты в пылу адюльтера отдаешься соседу-врагу — я чешу своего искандера и отчасти забыться могу. Я готов, если надо, побриться, я тоской и бездельем пропах, я готов бы от скучного БРИКСа побежать бы к тебе на руках! Но настала эпоха возмездий, непонятка в пацанской судьбе.
Так пойду и нагажу в подъезде, но уже, к сожаленью, себе.
* Данный романс является чисто лирическим произведением о превратностях дворовой любви, без всяких намеков на геополитику.