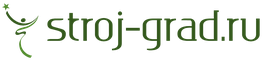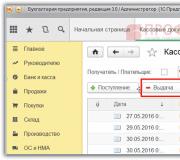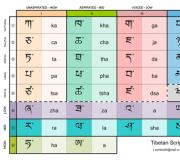Оправдание розанова. Василий розанов о православии
Христианство и религия В.В. Розанова
В. В. Розанов: pro et contra
Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Книга II
И нужно сказать – около «пола» и его тайны вращается вся религиозная метафизика Розанова; радость брака, защита семьи от церковных и государственных жестокостей – главный предмет в его публицистической деятельности. Сюда относятся его сочинения «Семейный вопрос в России», «В мире неясного и нерешенного», «Религия и культура» и ряд статей в журналах «Новый путь» и «Вопросы жизни». Вот основные мысли из этих книг и статей: «Рождающие глубины человека имеют трансцендентную, мистическую, религиозную природу... Религия почти во всей своей существующей полноте струится от пола: это – молитвы отцов о детях, матерей – о них же; молитвы детей, повторяющих слова за няней. Там и здесь – это молитвы пола, т. е. имеющие пол в скрытой глубине своей. Холодны ли они? притворны ли? Нет глубочайших, нет страстнейших молитв!.. Нет высшей красоты религии, нежели религия семьи. Но тогда и семья, т. е. в кровности своей, в плотскости своей, в своей очевидной телесной зависимости и связности не есть ли также, обоюдно и взамен, религия? Т. е., если столь очевидно религия льется из плотских отношений, то и обратно – нет ли религиозности в самих плотских отношениях? в их фактуре? Все это безмолвно и для всех неощутимо выражено в самом институте «брака»: он и есть теитизация пола... Если же «брак» есть или может быть «религиозен», – то, конечно, потому и при том лишь условии, что «религия» имеет в себе что-либо «половое»... Замечательная безгрешность младенца вытекает отсюда. В сущности, около младенца всякая взрослая (гражданская) добродетель является уменьшенной и ограниченной, и человек, чем далее отходит от момента рождения, тем более темнеет. В сиянии младенца есть ноуменальная, по-ту-светная святость, как бы влага по-ту-стороннего света, еще не сбежавшая с ресниц его. Дом без детей – темен (морально), с детьми – светел; долго смотря или общаясь с младенцем, мы исправляемся, возвращаемся к незлобию и правде... Семья – это «Аз есмь» каждого из нас; «святая земля», на которой издревле стоят человеческие ноги. Это есть целый клубок таинственностей; узел, откуда и начинаются нити, связующие нас, ограничивающие наш произвол, но так, что только здесь мы радостно покоряемся подобному ограничению: т. е. начало религии, религиозных сцеплений человека с миром. Это есть настоящее духовное отечество наше, без коего каждый из нас – духовный бобыль. Семью нужно понимать как труд, как неустанную заботу друг о друге, как единственный предмет, для коего труд нетруден и забота не утомляет; способ такой связанности людей, где они уже без «Нравственного богословия» любят друг друга, проливают друг за друга пот и готовы пролить, да и проливают иногда, кровь... Рождение и все около рождения – религиозно; оно – воскрешает, и даже воскрешает из такой пустынности отрицания, как наш нигилизм. Нигилисты – все юноши, т. е. еще не рождавшие; нигилизм – весь вне семьи и без семьи. И где начинается семья, кончается нигилизм... « Трудно удержаться, чтобы еще и еще не продолжить эти чудные мысли, талантливо раскрытые в названных книгах и преимущественно «В мире неясного и нерешенного»...
У нас некоторые зашумели, что Розанов говорит безнравственные вещи, что он «профанирует религию», «развращает богословие»...
В таких криках, может быть, менее лицемерия, чем простого недостатка религиозного чувства. Редко кто так целомудрен в своих словах, как Розанов в своих речах. «Взять священника на корабль вместо того, чтобы отслужить напутственный молебен», освятить религией всю природу, освятить самые страсти и чрез то оживить религию, сделать ее реальной силой, перевести ее из сферы понятий и слов в сферу жизни, переживаний – вот чего он хочет. Это ли не целомудрие?
Однако в этом еще не весь В. В. Розанов, – и кто думает, что здесь весь Розанов, и отдается его религиозному зову без всяких условий, без всяких задержек, тот может оказаться в положении поистине трагическом.
Дело в отношении г. Розанова к христианству по его существу – главный предмет названных выше книг.
Дело в том, что Розанов принципиально враждебен христианству, – и враждебен не только историческому христианству, но и всякому идеально-небесному порыву; он хочет, чтобы единственной основой и этики была физиология.
Его религия совпадает с церковно-бытовой поверхностью христианства и он здесь, на этой поверхности, говорит «к сердцу» христианской семьи. Но его религия уходит в глубь его религиозной метафизики и в этой глубине со всей решительностью восстает против христианства.
Мы привыкли встречать пренебрежение к церковному культу, к бытовой стороне христианства, и уважение к моральной стороне христианства, с которой стоит в несомненной связи весь моральный облик европейской истории. Но вот Розанов принимает троицкие березки, лампадки и фимиам и со всей решительностью отвергает евангельскую суть христианства, христианскую мораль. Язычество Розанова не шутка, оно не в одной бытовой радости, которую иным кажется легко соединить с христианством, ибо и в евангелии говорится о красоте полевых лилий (о, как это наивно! до боли наивно!), оно глубже и серьезнее, оно доходит до подпочвенного трагизма, оно в корне не примиримо с евангельской психикой.
Этим не ослабляется интерес наш к Розанову, – от этого он только возрастает. Но в книге, о которой у нас речь, эта стихия Розанова едва-едва выступает, как бы намеренно прикрыта, спрятана. Там или здесь оброненный им отсвет этой его наиглубочайшей религиозной сути может ускользнуть от невнимательного читателя.
«Иногда думается, что есть две и есть и должны быть два культа, две категории богослужений: черная или темная – как ответ на скорбь и метафизику скорби, и светлая, белая – как продолжение, украшение и дальнейшее развитие тоже врожденных нам радостей, восторгов, упоений, счастья. Первая уже есть: это – наша . О второй Церкви – даже мысли ни у кого нет. Для отрока, для юноши, для мужа-воина, для девушки-невесты что мы имеем, кроме вечно панихидных припевов, кроме икон с желто-пергаментными ликами старцев? Ничего – кроме испуга, пугающего!»...
«Иногда думается», – какой отвод глаз, какое смягчение тона, набрасывание тени, как бы прикрытие волчьей ямы. И вдруг у нас «ничего, кроме испуга, пугающего»: вдумайтесь во весь ужас этих слов, во всю ненависть, которая в них слышится.
А вот еще оброненное словечко.
«Смиренно терпение... пассивная красота, Толстого умиляющая, умилявшая долго и меня, – но ее я теперь боюсь, как смерти моей, народной, мировой! Это – красивая форма Молоха (Дух Небытия и Уничтожения), яд в золотом пузырьке, «родные» пальцы, берущие вас за горло... «
Это значит: боюсь христианства, как смерти! Послушайте и вникните в это вы, наивно мечтающие примирить языческую радость с евангельским духом.
Для В. В. Розанова религия – свет и радость. В рецензируемой книге он с этой стороны подходит к христианству. В этом случае он с любовью (и неоднократно) останавливается на одном священнике наших дней, весьма известном проповеднике и публицисте, который «указывает и доказывает ссылками, что евангелие не осуждает разумного уместного наслаждения благами природы».
По-видимому, такое истолкование евангелия представляет наиболее удобное в практическом отношении решение религиозной проблемы, и оно действительно имеет ценность в смысле борьбы с историческим аскетизмом, с современным книжничеством и фарисейством. Но в существенно-религиозном отношении, в смысле решения христианской проблемы по существу, оно легкомысленно. Это есть именно утилитарная проповедь , а не философия, – публицистика, а не религиозная мысль...
Я хочу сказать: г. Розанов принимает это истолкование христианства в целях пропаганды своей идеи и совершенно вне интереса к сущности христианства. У него есть своя религия, – и все, чего он хотел бы от христианства, это чтобы оно перестало быть религией жертвы и сделалось религией радости и «достатка», нимало не заботясь о том, что в таком случае погибнет, и даже желая именно этого. Истолковать христианство только как разумное наслаждение благами природы, это значит просто отрицать , пройти с шуткой мимо Голгофы, не задуматься над глубочайшей тайной евангелия, над сокровенными запросами человеческого сердца. Хорошее дело наслаждаться благами природы разумно, – но не одним хлебом живет человек, – хочет его сердце, кроме разумного наслаждения хлебом, и небесного подвига. Евангелие говорит только о небесной жизни. Это аскетически-односторонне объяснили так, что человек живет только небесной жизнью. С таким односторонним (историческим) аскетизмом нужно бороться, но для этого и нет нужды, и нет возможности легкомысленно перетолковывать евангелие. Его слова нужно принять во всей их глубине и жесткости, – и нужно именно для такого евангелия поискать места в нашей жизни. Это есть новая задача нашего времени, наша религиозно-историческая задача, – и она не может быть решена без некоторого религиозного перелома. И не нужно затушевывать этот перелом, нужно и – как говорит В. В. Розанов в другом месте – «лучше взглянуть опасности прямо в глаза».
Сам В. В. Розанов лишь в этих статьях, в публицистических видах, принимает поверхностное истолкование евангелия, тая в себе свое объяснение этого «исторического» явления... Но и по существу евангелия, по существу евангельского, вечно-религиозного метода, – недостаточно одной борьбы с современным книжничеством и фарисейством, лицемерием. Как евангелие рядом с такой борьбой, с обличением ханжей открывало углубление в «изначальную» правду религии, в вечное откровение Бога в природе человека и его сердце, так и религиозная реформа наших дней не должна останавливаться на легкой для нашего времени победе над книжничеством и фарисейством, но должна углубить историческую поверхность христианства в даль природы и сердца, внести и внедрить «духовную» евангельскую жизнь в лоно широкой реальной жизни...
Такова наша религиозная проблема.
В прекрасной статье «Аскоченский и архим. Феодор Бухарев» на тему «о сочетании реальной действительности с идеалом религиозной святости» приводится несколько писем Анны Сергеевны Бухаревой к В. В. Розанову. В одном из этих писем А. С. Бухарева жалуется В. В. Розанову: «Вот, кстати, я хочу рассказать Вам, как я была возмущена статьей проф. Тареева «О нравственном значении Христова Воскресения» , где он с решительностью восстает против верования в Воскресение Христа во плоти. Главным образом меня возмутил его спиритуализм, которым хочет он затемнить широкие горизонты, имеющие открываться с развитием учения о Боговоплощении... Как потускнел бы светлый наш Праздник, если бы православное наше представление о воскресении Христа отвечало спиритуалистическому представлению Тареева»... В. В. Розанов на это пишет: «Спиритуалист Тареев говорит, что в воскресении Христа было только воскресение Его души... Между тем (поучает меня наставительно г. Розанов, припомнив годы своего учительства в гимназии), душа наша не умирает... Зачем профессору это учение? Он возвышает дух на счет тела, т. е. путем его уничижения (монашеская тенденция): и Анна Сергеевна, сливая личный свой подвиг и правду своего мужа (разрыв с монашеством), восстает за права тела... »
В Европе до сих пор некоторые убеждены, что в русских городах по улицам ходят медведи... Подобно этому, некоторые из наших светских писателей думают, что все профессора академии – монахи...
Что в воскресении Христа было воскресение Его души, – этого я не только не говорил, но это именно я отрицал, считая «элементарным положением в библейском богословии ту истину, что дух не есть вторая (дух и тело), или третья (дух, душа и тело) часть человеческой природы, но дух есть божественное начало человеческой жизни, божественное начало в человеке»...
О монашестве же профессоров академии и о своих монашеских тенденциях, равно как и о медведях на улицах Москвы, я не буду совсем говорить.
Не в этом дело. В том дело, что Бухарева жалуется на меня (убежденнейшего христианина) Розанову (убежденнейшему язычнику) по вопросу о Боговоплощении, – и они как будто понимают друг друга.
«Да, – говорит Розанов, – воскресение тела... и далее – признание рождения, семьи, брака – это хорошо...»
Также в другом месте Розанов похвалил монастыри: «монастыри – это хорошо... как наши пословицы и сказки...»
И Боговоплощение для него – милая сказка.
Не бросится монах за эту «сказку» на шею В. В. Розанову, – комична и жалоба Анны Сергеевны Бухаревой.
Ведь нужно же понимать тактику Розанова и его психику. Вот его слова, в которых существенно выражается его отношение к христианству: «Сегодняшний наш день в вере есть просто наш и только наш день».
Это вот что значит.
Празднуем мы крестины. Таинство кончилось, вынесли купель, – на большом, покрытом белой скатертью столе расставлены в изобилии кушанья, радостный отец усаживает разоблачившегося батюшку и собравшихся родных и друзей... Входит В. В. Розанов.
«Ах, как хорошо у вас... Купель уже вынесли: это, разумеется, наивность. Таинство крещения – милые сказки... Но ведь, смотрите, как у вас весело. Белая рубашечка... на столе как все вкусно. Это самое главное – чтобы радостно было. Это у нас с вами общее. Мы – братья»...
– Но, позвольте, Василий Васильевич! Как же это Вы о крещении-то? И зачем это Вы?.. Если бы Вы просто поздравили меня с новорожденным и уселись за трапезу, как я был бы рад. – Но Вы о крещении... Смутили Вы нас... Понимаете ли, мы так легко не можем к этому относиться?
Так и о воскресении.
«Воскресение Христа? – говорит Василий Васильевич. – Это, конечно, сказки... Но смотрите – воскресение плоти: какая милая идея! Значит и «там» рождение, семья и брак»...
– Ах, г. Розанов, ведь у нас это... серьезно... И А. С. Бухарева: как это она скоро и... так легкомысленно с Вами...
Я не могу так легко принять розановское веселье – именно потому, что я убежденнейший христианин.
Для меня радость семьи, белая детская рубашечка, зеленая березка так же дороги, как и для Розанова. Но для меня дорого и евангелие... И поэтому для меня вся религиозная проблема сводится к вопросу о примирении «реальной действительности с религиозной святостью», о примирении евангелия с культурным прогрессом и мирскими радостями. Около этой проблемы вращаются все мои богословские сочинения.
Этот же вопрос решал и архим. Феодор Бухарев. Но он решал вопрос об отношении «православия к современности» догматически, исходя из идеи боговоплощения... На догматическом пути арх. Феодора нельзя оправдать свободного язычества, – это подлинный путь символического аскетизма. В самом деле, если мы ждем воскресения плоти, прославленной во Христе, то вся задача нашей жизни – приготовить свою плоть к воскресению, а приготовить ее можно лишь постом, молитвой и бдением, т. е. тем, чтобы «еще во плоти жить жизнью бесплотных». Это есть фактический принцип одностороннего аскетизма – общий архим. Феодору с Аскоченским.
Чтобы сделать невозможным этот уклон к символизму, я исхожу из евангельской идеи божественной духовной жизни и определяю отношение евангелия к миру и плоти по принципу полной свободы. Моя мысль в том, что нет никакого внешнего или формального соотношения христианского (религиозного) духа и языческой плоти: это две несоизмеримые области, соприкасающиеся лишь в глубине человеческой души. Евангелие не может определить ни плотской жизни человека, ни социальной жизни общества, – эти области подчиняются только природным законам и гуманитарной этике. Религиозный (божественный) дух вмещается в глубину индивидуального настроения, получая здесь также полную свободу. Таким образом, я признаю одновременное существование сокровенно-личного религиозного творчества и внешней природно-социальной необходимости.
И вот, чтобы овладеть этим принципом, я и возвожу церковный догматизм к евангельскому абсолютизму, к идее чистой духовности, религиозной абсолютности. Это метод самого евангелия. Христос говорил иудеям: «Вы следуете закону. В законе сказано: «не прелюбодействуй». Но если это делать для Бога, то не следует даже смотреть на женщину с вожделением. В законе определена форма развода, – совсем не разводитесь. В законе запрещено убивать, – даже не гневайтесь». Так закон возводится к абсолютности, при которой он сам собой уничтожается и заменяется свободой. Следуя этому методу, я говорю Аскоченским: «Христу не нужны барометры и пароходы. В этом вы правы. Но ему не нужна и вся плоть. Ему нужна только чистая духовность божественной жизни. Но чистая духовность как дело свободное и личное дает полную свободу плоти. Мне дорога чистая духовность, чистое евангелие, потому что этим путем примиряется дух (божественность) и плоть (природа)».
Восстановляя чистоту евангелия, я как бы разлагаю «воду» его на составные элементы, чтобы сделать возможным их живое соединение с составами нашей природы. Евангелие в церковно-исторической облатке символического аскетизма допускает лишь внешне-формальное отношение к миру (церковь и государство и пр.), – и лишь чистое евангелие соединяется в глубине индивидуальной жизни с природной необходимостью плотской жизни.
Вот зачем мне нужна чистая духовность. Это совсем не то, что символический аскетизм.
Впрочем, теперь речь не обо мне, – речь о книге г. Розанова, которой я ставлю упрек в неясности и недоговоренности. Говорю об этом с целью более выпуклой постановки религиозной проблемы.
В той же статье, под особым подзаголовком «Раздвоенность жизни», В. В. Розанов приводит письмо прот. А. Устьинского по вопросу о семейной христианской жизни, предупреждя читателей, что «о. А. Устьинский пишет тверже и яснее, нежели я (т. е. В. В. Р.), на многие общие у нас обоих темы». Письмо замечательно в смысле постановки вопроса, – указания на то, что наша семейная жизнь не освящается христианством, чего именно хочет автор. Последний итог своих рассуждений о семье он выражает словами Прессансе («Христианская семья»): «Что значит служить Богу в семье? Служить Ему в семье значит стремиться прославить Его во всех этих сладких, дорогих отношениях прежде, чем думать о своем личном счастье, – дать семье благородную, возвышенную цель, находящуюся вне нас, – научить ее, что она, как и отдельная личность, не должна жить для себя, что конец ее и назначение ее в Боге». Этим путем о. Устьинский думает «сделать семейную жизнь единым нераздельным лучом света Христова».
Я полагаю, что этим путем совершенно не решается религиозная проблема семьи и что с точки зрения В. В. Розанова эти слова Прессансе – наивный лепет, – что, говоря иначе, опять В. В. Розанов не договаривает в своей книге.
С точки зрения аскетической самым трудным считается примирить с христианством скверну муже-женского соединения. Для евангельской точки зрения этого затруднения совершенно не существует, так как в евангелии даже отдаленного намека нет на природную скверну. Евангельский Отец Небесный сотворил в начале «мужа и жену»... Аскетический взгляд на брак есть плод языческого дуализма .
Но семья, по евангельскому учению, может стать преградой на пути к вечной (асболютно-божественной) жизни в другом отношении – именно со стороны семейного эгоизма, самым наглядным видом которого можно назвать семейную собственность. Чтобы понять всю трудность этого столкновения, следует оценить, с одной стороны, всю высоту абсолютного евангельского идеала и, с другой, – всю глубину семейного эгоизма.
«Оставь отца и мать, жену и детей, раздай все имение»: вот евангельское требование.
Семейный эгоизм, с другой стороны, так изображается В. В. Розановым:
«Собственность – это труд, и вопрос о нужности ее есть вопрос о нужности труда: т. е. это есть совершенное и именно безнравственное празднословие, прикрывающееся высшей моралью. Чувство собственности будет не только живо, но и горячо во всяком, в ком живо и горячо чувство семьи, чувство дома; можно быть бедным – и понимать это, бескорыстным – и проповедовать это; есть азартная, т. е. подлая собственность; но есть собственность как тихо льющийся неустанный труд для ближних (т. е. семьи) – и это есть святая собственность».
Вообще отрицание ненужного аскетизма составляет «явную» задачу Розанова... В дальнейшем семейный эгоизм приводит к национализму, к народной исключительности. Для Розанова евреи – идеальный народ-носитель семейного начала, – и ни один народ не воспитал в себе такой отвратительной ненависти и презрения к другим народам, за что и был заслуженно ненавидим и презираем всеми народами. Но Розанов отметает как сор отвратительность этой ненависти ко всем и страдание этой ненависти ото всех: он видит в этом национализме Божие дело... С любовью к семье и своему народу, со святой собственностью он связывает всю культуру, все дорогое для человека, – ив этом пункте он расходится с евангелием до боли, до стонов. Вспоминая евангельские слова о разделении семьи и о вражде между домашними, он восклицает:
«Для чего такие ужасные жертвы? И кто же, не ли Промыслитель, унежил наше существование и детьми, и семьей, и, наконец, Пушкиным, и даже звонкими песнями Эллады? Где Промысел? Кто Бог?.. Идея Отца и Промыслителя, всеобщего Опекуна мира, разрезалась идеей греха и искупления. Если грех – то нужна жертва, е только Пушкин и Эллада, но и эти детишки и жены – жертва... И мысленно я страдал. Это мировой вопрос »...
Между евангелием и семейным (и национальным) эгоизмом нет никакой внешне-формальной точки прикосновения, – и путем морализации семьи никак нельзя ее примирить с евангелием: идеалы Прессансе-Устьинского лицемерны с евангельской точки зрения и смешны с розановско-языческой точки зрения. Розанов – представитель религиозного семейного начала – последовательно и от души ненавидит евангельский дух как дух уничтожения и небытия. Семья только в том случае может быть освящена религией, если религия примет под свое покровительство семейный эгоизм, что было в иудействе и язычестве и чего хочет Розанов. Напротив, христиански-святой семьи, христианского государства, христианского народа никак не может быть, потому что именно в уничтожении границ семьи, государства, народа.
Само собою понятно, что семейный эгоизм не есть непременно разврат и деспотизм. С ним не только мирится, но им требуется семейная чистота, благородство отношений, красота воспитания детей. Вся культура семьи вырастает единственно из семейного эгоизма... Но все дело в определенном перевале: до тех пор пока семейная моральная культура не перешла за этот перевал, она остается плодом семейного эгоизма, в нем разрешается всецело, а как только перевалила на другой склон – склон христианского духа, так необходимо начинается разрыв семьи.
Вот когда позовет Бог семьянина на какое-нибудь Божие дело и он благословит свою семью, поручит ее Богу и добрым людям, а сам пойдет на геройское дело, пытку и и положит душу свою за Божию правду, за любовь к людям, – тогда лишь он проявит себя христианином . Если же нет еще этого зова, то христианская семья ничем не отличается и не должна отличаться от хорошей языческой семьи. Христианином семьянин бывает лишь в том смысле, что он носит в себе эту способность откликнуться на зов Божий, но это его отличие от материалистически настроенного человека ни в каком случае со стороны не может быть усмотрено и оценено. С этой стороны лучше не судить людей. Только знает Своих.
Решительно можно утверждать, что применение евангелия непосредственно к формам мирской жизни – к устройству семьи и государства – неизбежно должно дать плачевные результаты: семья, устроенная только по евангелию (разумеется, мнимо), будет неизбежно хуже языческой , и государство, (мнимо) устроенное только по евангелию, порождает деспотизм со всеми его культурными последствиями. Для процветания семьи неизбежно нужно свободно раскрывающееся природное (языческое) тепло и для процветания государства – свободно развивающееся соотношение составляющих его сил.
При этом опять-таки само собою разумеется, что чистое евангельское можно носить только в душе, а чтобы применить его к формам жизни, семейной и общественной, необходимо облечь его в символическую форму- «венчание», «помазание на царство». Вот этот формализм, достаточный, чтобы ослабить языческие инстинкты здоровой жизни, но недостаточный, чтобы сделать жизнь вдохновенной, – и создает то, что В. В. Розанов называет «водянистым» христианством.
«Да есть ли, – говорит он, – реализм, реальность, реалистический момент в самом христианстве? Возьмите картину. Один и тот же ее узор можно начертать карандашом, чернилами, акварелью, масляными красками. Мне думается, есть истина, начертанная карандашом, и самое большее – акварелью, а ни в каком случае не масляной краской. Бес-кровное и бес-сочное – вот что такое наши религиозные понятия. Даже дико сказать: «понятия». Почему религия должна быть понятием, а не фактом? Книга «Бытия», а не книга «рассуждения» – так началось ветхое богословие. «В начале б? Слово" – так началось богословие новое. Слово и разошлось с бытием, «Слово» – у духовенства, а бытие – у общества»...
В. В. Розанов возводит это расхождение к «метафизике христианства» в отличии его особенно от иудейства.
«Метафизика христианства лежит в гробе, смерти и монашестве. Смерть – ужас... Смерть – так же метафизична, как зачатие. Это – другой полюс мира, черный, противолежащий белому полюсу – обрезанию. Евреи отвратительно хоронят своих мертвецов... Христианство смерть преобразовало в гроб. Гроб – это поэзия, а не голый ужас... Монастырь есть длинная мантия гроба... Как «гроб» есть преобразование смерти в «поэзию», так монастырь есть преобразование гроба в целую цивилизацию – поэтически-грустную, меланхолически-возвышенную... Монастырь есть вся душа и вся поэзия христианства, его реальная метафизика... Где нет монашеского духа и монастыря – нет христианства; где он есть – налицо и действует ... относится к Ветхому как смерть к зачатию, похороны к рождению, монастырь к семье, гарему (у Давида и Соломона) и площади (базару)».
Это самые сильные слова в книге В. В. Розанова, укрывшиеся, однако, в невидной последней статье, под непривлекательным заголовком и напечатанной мелким шрифтом.
В целях борьбы с церковью и христианством это самое разрушительное и неотразимое, что только было сказано на протяжении веков...
Проведите прямую линию. Затем проводите из той же исходной точки в том же направлении другую прямую, но с маленьким уклоном: две прямых разойдутся до бесконечности.
Так религия смерти расходится с христианством. В евангельском христианстве любовь не останавливается перед , в аскетизме само по себе умирание, умерщвление становится идеалом: только и различие.
Но в наши дни бесконечность различия обнаружилась. Ныне, с одной стороны, открылась в сознании человечества мерзость трусливого прозябания, мещанского благодушия, и красота свободного подвига и беззаветной любви к людям, – ныне сознано и постигнуто «блаженство, равного которому еще не создавала земля, – работать за людей и умирать за них».
С другой стороны, ныне аскетизм с удивительной откровенностью, почти наглостью заявил, что ему нет дела до любви, что он не евангельской природы.
Это нужно оценить и осмыслить.
Наше время – лаборатория, в которой выясняется чистое , освобождаясь от исторического облачения символов...
Но... еще вопрос.
Если символическая оболочка приводит к формальному применению христианства и необходима при таком применении, то ведь – наоборот – в природе нет места чистым элементам, и «чистое» не окажется ли бесполезным по существу?
Освобождая от исторической оболочки символов, восстановляя его чистоту, мы должны видеть в этом только половину задачи, хотя и важную. Нужно затем отыскать для христианства новую точку опоры взамен символических форм, новые «сочетания».
И это есть колоссальная задача новейшей этики. Она должна ввести чистое в систему реальной жизни, соединить его с землей, напитать его «кровью и соками», сделать его сильным естественной силой.
Задача новейшей этики – понять как правду жизни в самом эмпирическом, живом смысле этого слова. Высшее этическое начало, как и высшее благо, – есть жизнь. Инстинкт жизни – единственная нравственная сила; радость жизни – имманентная нравственная награда. Эта жизнь есть прежде всего животная, физиологическая, с ее неотразимой силой и ее несокрушимой правдой. В ее законах – «изначальное» слово Божие, изначальная воля Его. Затем человеческая жизнь есть жизнь социальная с ее историческими законами, воспитывающими людей и слагающими их во всемирное братство. Но физиологией и общественностью не исчерпывается жизнь «нового» человечества: она есть, наконец, жизнь духовно-творческая, жизнь сверхчеловеческого подвига во имя высшей божественной свободы. Подвиг нужен человеку ради полноты его жизни, ради ее последней радости, высшего расцвета... Таким путем божественное, «христианское» начало вплетается в организм земной жизни с ее соками и высшими восторгами. Жизнь все примиряет в себе, – многогранная, она всему человеческому дает в себе место.
О жизни с избытком (ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἒχωσιν), о жизни не одним хлебом (οΰκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος) как именно о новозаветном принципе учит евангелие. Но мы доселе принимали евангелие лишь за историческое явление; наше внимание было поглощено тем историческим фактом, в форме которого открылась человечеству духовная жизнь. Между тем, народившаяся в голгофской трагедии свободная жизнь духа давно уже стала естественным достоянием нового человечества, хотя еще не ясным для нашего сознания. Понять божественный дух как естественную принадлежность реальной жизни, полной и свободной, – такова новейшая задача нравственной философии.
Первая (богословская) часть ее – привести чистое евангельское к источникам жизни, к ее корням.
Вторая часть нравственной философии – раскрытие красоты самой жизни в ее источниках, в ее сочном благоухании, в ее изначальной и вечной влажности, в ее непрерывном воспроизведении и неиссякаемой радости... Эту «половину дела» с яркой талантливостью и художественным совершенством выполнил В. В. Розанов.
И те, которым дорого «евангелие» в жизни, с радостью протянут руку этому «жизнелюбцу», ненавидя символы, отторгавшие дух божественный от жизни. Но пусть и «жизнелюбцы» раздвинут рамки жизни и наряду с физиологией дадут в ней место не только социальному началу, но и высшему духовному подвигу...
Пусть они поймут, что как жизнь нужна для идеи, чтобы ей воплотиться, и плоть нужна для духа, чтобы ему реализоваться, и язычество нужно для христианства, чтобы быть ему живым, – так и плотскому язычеству нужен христианский дух, чтобы оно не было мерзкой плотью... Односторонняя культура духа, чем было доселе и что подменяло божественный дух (= силу жизни) духовной бестелесностью, принесла горькие плоды ложного аскетизма. Но это не была религиозная аберрация, это был согласный с планами Промысла, необходимый исторический «день» христианства, выявивший его чистую идею и пронесший ее через развалины древнего язычества. Ныне открывается эра божественного духа не вне жизни, а для жизни... В. В. Розанов зовет нас «назад, как можно скорее назад» от христианства к язычеству, но «история не знает возвратов» и «нет пути к невозвратному». Солнце плоти для нас померкло навечно, – «язычество умерло и после Христа не воскресимо: все Афродиты и Дионисы – невыразимая чепуха». Прекрасное тело мы чувствуем, начинаем чувствовать, видим или начинаем видеть в нем Божие творение, но религиозно поклониться ему мы не можем, у нас потеряно чувство религиозного благоухания плоти, физиология не может перенести нас в трансцендентный мир, – прекрасное тело и его физиология для нас природа и только. Для нас воссияло новое солнце и у нас есть новая религия, мы знаем недоступные древним небесные восторги, знаем новые пути в царство Бога. Не назад от христианства, а вперед с христианством: вот наш путь.
Наша религиозная мысль должна начинать с христианства, с высоты евангельской. Дойти до плоти и жизни через Христа, – вот наша задача.
Божественный дух как дух для жизни, для ее освящения – в этом наше спасение. Только плоть – это язычество; только дух – это историческое ; дух для жизни – это наше будущее. Что ни говорите, древнее язычество погибло, развалилось по внутренней необходимости («плоть ослабевшая распустилась в последних пороках, слюна и гной точились у умирающего»), и его воскресение – пустая мечта. Мы можем освятить свою плоть не древним языческим путем, но только новым христианским – не религией плоти, но внесением в жизнь абсолютной ценности, – и это есть ценность личности. Нам нужно понять, и мы уже понимаем, божественный подвиг и святыню личности как требование и расцвет самой жизни, без чего жизнь кажется нам пошлой, мещанской. И вот это внесение божественного духа в недра самой жизни должно освятить все ее слои, должно освятить и плотскую жизнь. Поднять семью – эту наивысшую святыню плотской жизни – древним языческим путем, путем религии плоти, обрезания, нам не по силам и не по вкусу, но мы можем ее поднять путем святой личности – абсолютной ценности жены и ребенка. Нам нужна Божия природа, чистая плоть, в свободе ее страстей от всякого ложного стыдения, как живая основа жизни; но наш подъем, наша религия не от плоти, а от духа. «Это твоя сестра во Христе, поэтому не оскверняй ее плотским соединением»: так сказал Толстой, как последнее эхо аскетического прошлого. «Это твоя сестра во Христе, поэтому пусть твое соединение с ней будет святым, освяти это природно-сладкое соединение мыслию о ребенке»: так будут говорить грядущие пророки.
В святости личности есть свой абсолют. Изображая («В мире неясного и нерешенного») еврейство «как религиозно-половое товарищество, кровное племя не мнимых (мы), а истинных братьев, сестер, невест, женихов, отцов, матерей», В. В. Розанов отсюда объясняет, почему еврей не может изнасиловать еврейку («она – наша, кого-нибудь из нас»), не пойдет в дурной дом («он обидел бы Израиля»), и пишет далее о христианстве: «у нас, насилуя – я пустую насилую, ничью; и идя в дом терпимости – себя мараю, а не племя русское"... Против этого можно сказать: для человека евангельского духа не может быть пустой женщины, для него всякий человек свят – и это абсолютно, не как слово, а как действительное ощущение... Конечно, это ощущение не захватывает лакея, хотя и записанного в метрические книги, но это и значит лишь то, что я говорю – не создает культуры, народности, должно быть свободно от всяких формул и дать всецелую свободу культуре, тогда как остается несомненным, что святость личности – единственный для нас путь к религии брака и семьи.
Вот моя первая мысль: понять божественный порыв к универсальной любви, чуждой древних границ семьи и нации, чуждой границ мещанского благодушия – понять этот порыв не как внешнюю заповедь и тяжелую жертву, не как путь умертвил, а как расцвет самой жизни, это значит – освятить всю жизнь божественным духом. Носить в себе эту божественную возможность – это значит освятить и общественные отношения, и физиологические связи. Моя вторая мысль: необходима разнородность жизненных элементов – физиологии, общества и духа – для их гармонического сочетания. Что «разнородные элементы (как душа и тело) соединяются в единство, тогда как однородные смешиваются», – это древнее слово. Поэтому нет для нас двух религий – плоти и религии христианской, есть только одна религия – религия духа, одна абсолютность – духовная. Разнородные элементы – природная физиология, человеческое общество и божественный дух – именно потому, что они разнородные, сочетаются гармонично по закону полной взаимной свободы и непостижимого внутреннего взаимоотношения.
Наш есть Бог жизни, – и наш высший принцип есть принцип жизни. Как дорога и высока жизнь, так дорого и высоко рождение – начало жизни. Но разумно-человеческая жизнь раскрывается лишь в обществе. И этого мало. Бывает так, что человек может быть жив лишь под условием наивысшей свободы и от оков общественной среды, и от границ семьи и нации. Что можно сказать против этого божественного порыва и высшей любви, лишь бы это было к жизни, к ее высшему расцвету и красоте? Но плоть и семья всегда есть «то, что она есть, а не то, что мы о ней думаем». Между древним язычеством и новейшей философией В. В. Розанова то различие, что там была непосредственность и простота чувства, а у него – слово, хотя и гениальное, «обширно развитая философия». Поэтому там, пока не исполнилось время, предохранение от мерзостей плоти было в самой жизни; а ныне искусственно (на словах) воздвигаемая религия (абсолютность) плоти ничем не предохранена от «бездны» плоти, в которой тает святая семья ... Святая «многоочитая» плоть молчалива... Для нас эта святая молчаливость плоти потеряна, непосредственность природного чувства невозвратима, – и условие «теитизации» пола для нас единственно в том, что человек в своем духе может быть выше пола, что он не весь в физиологии. Это не означает того, что будто физиологию (и общество) можно построить, исходя из чистых основ духа, – природная сила всегда дана в своей неисчерпаемости и требует со стороны других элементов жизни лишь свободы и освящения. Это не означает и того, что будто в сфере природы можно быть без религии, без Бога. Но должно быть непрерывное схождение и подъем , как в видении Иакова и созерцаниях Христа; храм должен иметь дверь, святилище и святая святых (природа, общество и личность). В этом полнота религии... Двор (и святилище) не как задворки, куда сваливается сор, а как обнесение или окружение из стен и сада, совершенно необходимое условие внутреннего «святая святых», обращающегося в пустое место при обнажении, в пустой звук. И необходимо настаивать как на том, что только обнесение делает внутреннюю святыню реальною силою, дает ей точку опоры, напитывает ее соками и кровью, так и на том, что освящающий свет идет лишь изнутри, что лишь здесь – абсолют. Это одинаково идет и против одностороннего аскетизма, и против плоти: природный вид жизни (длительной) может быть только один – брачный, но брак – святыня только потому, что дает жизнь человеку – дает жизнь ребенку, «спасает» жену и делает «живым» его самого. При хорошей семье «схождение» лишь в том, что дающая и жертвующая любовь ограничивается в круге объектов, и это создает свежую психику скромного дела и кроткой радости; когда же или семья (напр, чрезмерно сытая, самодовольная, самозамкнутая) начинает (даже без всякого расстройства и «противности» собственно в брачных отношениях) опошливать человека, губит его, или же сделается для него внутренней потребностью какое-нибудь «вне-семейное» дело, он вправе разорвать семью, потому что выше всего то, чтобы «жив был человек». И думается, что эта возможность, переходящая иногда в необходимость, разрыва той или другой семьи (не по скопчеству природному, или от людей, или по прелюбодеянию, но ради царства Божия, ради жизни человека) – вообще семью не унизит, но возвысит и освятит.
«Девять месяцев беременности закладывают фундамент души будущего новорожденного; и, в конце концов, и у всего населения – закладывают, образуют и несколько воспитывают душу целого народа. «Каков в колыбельку, таков и в могилку», – это решило 1000-летнее наблюдение. Это ли не месяцы особого настроения будущих матерей? И не можем ли мы, не могла ли бы религия, уступив хоть моим словам, сообщить им в это усиленно важное время усиленно возвышенного настроения? Далее, если мы имеем (в Петербурге) «Собор всей гвардии», «Собор всей артиллерии» со знаменами, развешанными по стенам, с пушками возле паперти, с молитвами о «воинстве» и «победах», то отчего же не быть отдельному храму и некоторым особым молитвословиям, со своими напевами, с созерцанием особой стенной живописи (библейские картины) для матерей, для беременных, для зачинающих?! где было бы вовсе исключено все аскетическое и раздвинуто и выражено все жизне-творческое, семейно-домашнее! Совершенно позволительная мысль, о которой мечтал, путешествуя на Афон, уже знаменитый епископ Порфирий Успенский (Порфирий Успенский (1804–1885) – епископ, археолог, богослов, исследователь православных древностей Востока. Автор многочисленных трудов, в том числе: «Первое путешествие в афонские монастыри» (1877), «Второе путешествие в афонские монастыри» (1880), «Книга бытия моего» (8 тт., 1894–1902)). Легко догадаться, что душа человека, столь неотделимая от его физиологии, от таинственного особого сложения его организма, будучи в самой физиологии сплетена в один клубок с религией – стала бы вообще более чутка и впечатлительна ко всему нездешнему, ко всему загробному, ко всему премирному. Ибо ведь что же такое «песня Ангела», которую «слышал и полузабыл, но забыл не вовсе» человек до своего рождения?! Конечно, это только настроения матери, особо передающиеся ребенку! Ребенок еще из темной могилки своей видит душу матери с такой особой стороны, какая никому не открыта, да и она сама о себе всего не знает. Все, что мы именуем «врожденными идеями», довременными предчувствиями – Бог, загробный мир, последний суд, и правда, идеалы терпения и подвига, – все «врожденное» и есть просто переживания матери, думы и песенки ее, песенки и молитвы, и страх о возможности смерти (в родах), своеобразно отразившиеся на плоде в ее чреве, толкнувшие его, обласкавшие его, согревшие... Вот религия-то, через соответственное чтение, обряды, службы, музыку, живопись, наконец, чрез сотворенные легенды и воспоминания могла бы сотворить чудные по высоте и нежности мотивы для душевной жизни беременных, грядущих матерей! И вместо того, чтобы уже потом делаться (воспитание, суд) благородными, – вместо того, чтобы приучаться к благородству, – люди (младенцы) уже рождались бы благородными, с естественной (врожденной) склонностью к добру и отвращением ко злу... Мне кажется, этого уже инстинктивно ищут теперь; матери в это время избегают дурных впечатлений; родные, ближние, друзья боятся испугать, расстроить беременную. Но... отчего же религия не выступит им могущественно на помощь, навстречу?.. Только и есть один на это ответ: да никогда о семье не думала и никогда о ней не заботилась, ибо она – девственная, монашеская, аскетическая, скопческая, анти-супружеская и анти-семейная!»... Более глубоко-сердечно-религиозного этих строк я ничего не встречал во всей литературе наших дней. Над этими строками нужно годы думать и можно годы умиляться.
Статья «Аскоченский и архим. Феодор Бухарев» впервые появилась в газете «Новое время» (1902. 12 и 17 декабря) под названием «Интересный эпизод нашей умственной жизни», а позже была включена в книгу «Около церковных стен» (т. 2). Бухарев Александр Матвеевич (1824–1871), в монашестве архимандрит Феодор – богослов, разработавший оригинальное учение о сближении церкви с повседневной жизнью (т. е. противоположное Тарееву) на основе идеи об искупительной жертве Христа. Розанов отмечал, что учение А. М. Бухарева, который был вынужден из-за нападок на его учение сложить с себя сан и выйти из монашества, оказало огромное влияние на тематику Религиозно-философских собраний (О возобновлении Религиозно-философских собраний // Новое время. 1907. 8 сент.). О. , работавший над книгой о Бухареве, очень высоко ценил опального богослова, издавал его сочинения и материалы о нем, утверждая, что подлинное понимание архим. Феодора Бухарева еще впереди.
Бухарева (урожд. Родышевская) Анна Сергеевна – поклонница идей о. Феодора и затем, после его расстрижения, жена А. М. Бухарева, посвятившая свою жизнь пропаганде его учения.
Именно прот. А. П. Устьинский обратил внимание Розанова на фигуру Бухарева и настойчиво рекомендовал ему написать об этом полузабытом, но важном мыслителе.
Об этом неоднократно говорит и В. В. Розанов в книге «В мире неясного и нерешенного». Он пишет: «Начало собственно плоти и плотского человека к человеку «прилепления» не только не враждебно Христу, но можно сказать, что в эту слепленность людскую Христос и вошел, как в сень свою, везде беря человека не в сиянии одежд его, не в украшениях гроба, но в радости семейного очага, у колыбели. Против этого общего колорита Евангелий и Лика Христова совершенно бессильны бегучие и, может быть, апокрифические привески вроде «лучше не жениться», «даяй деву в брак – хорошо поступает, а не даяй – лучше поступает»... Тайна Боговоплощения: «Слово – плоть бысть и вселися в ны». Таким образом, фундаментальное очертание христианства не только не бес-"поло», как думают некоторые, не бес-"плотно», но именно эта религия, с во-"площением» в центре, и есть истинное поклонение ставшей божескою плоти»...
Своего угла для могилы извечно присуща смертному. Извечно мы будем любить покойного. эта, уважение к праху – один из краеугольных камней красоты образа человеческого. Только христиане смотрят на умерших, как на собак: «сжечь их?», «опустить в землю?», «на родине?», «на чужбине?» – «Э, все равно, где-нибудь...» Я говорю, что у христиан нет почтения к праху, или, по крайней мере, его меньше, чем у древних и у современных язычников»... Эта несогласованность в книге разновременных газетных статей ослабляет впечатление книги и колеблет основные выводы автора.
Нельзя здесь не припомнить следующих слов В. В. Розанова в ст. «Миссионерство и миссионеры»: «Что в евангелии сказано о смерти и погребении? Единственное: «оставь мертвым погребать мертвых». Больше ничего. Кто же, как не , придумала, и притом вновь придумала, по своему почину, а не на почве Евангелия, дву-ночное над покойником чтение Псалтири, омовение его тела, как бы умащение и приготовление его к переходу во что-то чистое; и, наконец, – дивные по глубине и звукам надгробные песнопения, которых ни один человек не может равнодушно слышать. Развилось ли это из слов: «оставьте мертвым погребать мертвых»? Конечно, нет, конечно, при молчаливом обходе этих слов!»... Ср. выше примечание из книги «В мире неясного и нерешенного» об общем колорите Евангелий и Лика Христова... Встречаются там даже такие мысли: аскетизм «много спустя после Христа начался: Христос нигде не осудил еврейской семьи».
Василий Розанов
Когда в Санкт-Петербурге начались Религиозно-философские собрания, участвовал в них очень активно и В.В. Розанов, но это участие сопровождалось, на нынешний взгляд, довольно странными вещами. Не стопроцентное одобрение вызывали некоторые его инициативы и у розановских современников. Он сам пишет о недоумении и взрыве ярости в ответ на сделанное им предложение, чтобы новобрачным первое время после венчания предоставлено было оставаться там, где они повенчались. «Потому, что я читал, - пишет В.В. Розанов, - у Андрея Печерского, как в прекрасной церемонии постригаемая в монашество девушка проводит в моленной (церковь старообрядческая) трое суток, и ей приносят туда еду и питье. «Что монахам - то и семейным, равная честь и равный обряд» - моя мысль…» Далее Розанов говорит, что, когда он высказывал это предложение, его посетило некое ясновидение. «Мне представлялась ночь, и половина храма с открытым куполом, под звездами, среди которого поднимаются небольшие деревца и цветы, посаженные в почву по дорожкам, откуда вынуты половицы пола и насыпана черная земля. Вот тут-то, среди цветов и дерев и под звездами, в природе и вместе с тем во храме, юные проводят неделю, две, три, четыре. Они остаются здесь до первых признаков беременности. Когда эта идея, «как ни странно», вызвала протест у владыки Антония (Храповицкого), Розанов спешит успокоить его. «При этом, разумеется, никаких актов на виду не будет, так как после грехопадения всему этому указано быть в тайне и сокровении («кожаные препоясания»); и именно для воспоминания об этом потрясающем законе отдельные чертоги (в нишах стен? возле стен? позади хоров?) Должны быть завешены именно кожами, шкурами зверей, имея открытыми лишь верх для соединения с воздухом храма. Как было не понять моей мысли - обижается Василий Васильевич: раз здесь - религия, то все должно быть деликатно, не оскорбительно для взора и ума».
Несмотря на эту оговорку, все несколько отдает сумасшедшим домом. Но мы должны быть благодарны Розанову за то, что он открыл нам свое видение. Так был предельно ясно обозначен, если попытаться все же серьезно отнестись к сказанному, важнейший симптом духовного состояния времени. Невозможность, несмотря на предельнейшую необходимость (до революции оставалось менее двух десятилетий) единомыслия лучших представителей русской культуры и деятелей Церкви.
Розанов с ходу определил масштаб расхождения. Без его выходки он был бы не так ясен. Были только намеки. Вот как пишет Зинаида Гиппиус о появлении идеи собраний в петербургских литературно-эстетических кружках. «Они, - пишет Гиппиус, - тогда стали раскалываться; чистая эстетика уже не удовлетворяла; давно велись новые споры и беседы. И захотелось эти домашние споры расширить - стены раздвинуть. В сущности, для петербургской интеллигенции и вопрос-то религиозный вставал впервые, был непривычен, а в связи с церковным тем более. Мир духовенства был для нас новый, неведомый мир. Мы смеялись: ведь Невский у николаевского вокзала разделен железным занавесом. Что там, за ним, на пути к Лавре? Не знаем: terra incognita. Но нельзя же рассуждать о церкви, не имея понятия о ее представителях. Надо постараться поднять железный занавес».
Уже в самом тоне что-то не то, какое-то «барское» высокомерие. «Что-то господа душновато, пойдемте пройдемся, заодно посмотрим на духовенство». Розанов, в общем, был из той же компании, но в то же время стоит уже у края черты, обозначающей ее круг. А зачастую выходит далеко за его пределы. Он дальновиднее, он попадает в точки, не доступные для остальных. Рискнем сказать, это происходит потому, что в Розанове пробивает себе путь философская интуиция, которая в России всегда была в дефиците, - то состояние души, которое русскому человеку было по преимуществу недоступно, - и именно с нею связаны все приключения розановской мысли.
Нельзя сказать, что эта интуиция является единственным ее источником. То, что часто, а может быть и в основном, занимает Розанова, можно отнести к разряду довольно смутных переживаний, к чему относится и его нелепая выходка на «Собраниях». Так он чувствует телесную жизнь, ее зарождение, рост, чувствует до мельчайших физиологических деталей, видит в этом нечто совершенно безусловное, в чем заключена живая душа человека. И этому смутному переживанию или волевому импульсу он стремится придать ясность, концептуально оформить невыразимое. В результате возникали ошибки, порой самые грубые и опасные.
Более всего эта грубость становится очевидной именно в претендующих на концептуальную оформленность розановских оценках христианства. Здесь я имею в виду главным образом сборник «Темный лик», где Розанов пытается выявить, как он сам утверждает, «метафизику христианства» и доходит до самых чудовищных вещей, именно потому, что стремится придать своей мысли максимальную метафизическую определенность, сделать ее мыслью по преимуществу. Вот как заключает он статью «Случай в деревне»: «По неизменному сказыванию всех людей - «мы рождаемся от Бога», или как Филарет отвечал Пушкину:
Жизнь от Бога нам дана.
Отсюда, из этих представлений, - и термин псалма: «земля есть подножие Божие, а небеса - Престол его». Но совершенно вне этой орбиты лежит смысл христианства, обнимающего только одну вторую половину или вторую истину нашего бытия - приближение к гробу, и через гроб - вознесение в небеса. «Мы воскреснем после смерти, и даже смерть есть способ воскресения от земли в небо» (какое-то мистическое, а не астрономическое, конечно) - вот и все христианство, от точки до точки». И далее: «Есть розы, есть Renaissanse, есть Божии на земле розы, и Renaissanse был Божественным откровением, но лишь не в орбите Второй, но Первой Ипостаси. Но как проникновенно оказывается учение о «лицах Божества», коему учили Вселенские соборы и которого, судя по записанным Эккерманом «Разговорам», не понимал и решительно отрицал даже Гете: «Никогда три не будут одно». Между тем до такой степени очевидно, что, например, семья, брак, весь исторический Renaissanse просто не умещаются «в том же Лице», в коем сосредоточены гроб, смерть. И между тем гроб и рождение - обои есть, и есть как вечный и святой факт. Но, остается добавить, принадлежат разным Ипостасям» .
Причиной этого заблуждения, существо которого по причинам богословской очевидности мы не будем обсуждать, является то, что здесь Розанов мыслит как раз не философски. Он указывает на вещи, которые в настоящем смысле не понимает, говоря о поле, браке, рождении. Когда он начинает размышлять о них, то они захватывают его душу как иррациональные стихии влекут за собой, здесь мысль только отражение этого процесса, констатация магической захваченности мыслящего чем-то иноприродным мышлению. Розанов не самоопределяется здесь философски в отношении сказанного, а лишь передает то, что шепчут ему темные духи, сокрытые в стихии пола. Ведь понять значит сделать предмет своим, постичь существо предмета, идеально овладеть им. Розанов же захватывается стихиями своей собственной души, впечатляющими, чарующими его мысль. Брак, пол, семья, рождение здесь скорее материал, удачно попадающий в русло розановского потока сознания, или отголосок, эхо действительно иррациональных, но в перспективе интеллектуального схватывания так или иначе все же не субстанциальных, не самодостаточных начал, чистой природы которых нельзя обнаружить.
Душевная захваченность Розанова смутным, стихийным ведет к тому, что мысль его гонится за несуществующим предметом как собака за механическим зайцем. Когда же ей удается этого зайца догнать, возникает нечто подобное проекту супружеской жизни в православном храме или псевдометафизика «Темного лика».
Неслучайно свой проект Розанов объявляет ясновидением. Но ясновидение это особого рода. Перед взором Розанова рисуется некая картинка, невесть откуда, из каких тайников души к нему пришедшая. Сам Розанов, его Я эту картинку только оформляет и озвучивает. Здесь он вовлечен в нечто иное, внеположенное его самосознанию, в мир, где все концы уходят куда-то далеко вглубь. В этой ситуации и само понятие Христианства становится чем-то смутным и размытым. Знает ли В.В. Розанов, о чем говорит? Дан ли ему каким-то образом предмет или самому Розанову просто хочется видеть его таким, чтобы освободить место собственной фантазии. Правда, здесь возникает встречный вопрос: а возможно ли вообще суждение о Христианстве, предполагающее именно владение предметом. Скорее всего нет, так как сами мы всегда внутри христианства, и оно представляет никогда не достижимый горизонт нашего движения, в том числе логического.
Но в этом движении у Розанова все же возможна и фиксация некоторых настоящих узловых пунктов, когда философ каким-то образом пробивается к бытию, когда ему удается высказать целое без остатка и в этом высказывании состояться самому, осуществить свое собственное бытие как философа. Тогда и понятия христианства или православия из смутных неопределенностей или, напротив, ложных определений преображаются в настоящие «понимающие, предметные понятия». Эти философские интуиции у Розанова наличествуют, и именно они, прежде всего, обозначают те пункты, которые выводят его из круга представителей литературно-эстетических кружков, скептически или отстраненно настроенных в отношении к церкви. Организаторы Религиозно-философских собраний видели в духовенстве только корпорацию, за которой можно было признать лишь право на особое мнение в отношении Истины, но никаких особых полномочий на ее постижение и хранение. Скорее напротив, с их точки зрения, преимущество в отношении Истины имели свободные мыслители. В интеллектуальном смысле или смысле культуры последние действительно были «продвинуты» более большинства духовенства с его патриархальностью, особыми корпоративными привычками, языком, всем тем, что способно было вызвать у интеллектуалов ироническую усмешку и до поры до времени совершенно не беспокоиться о существовании «железного занавеса». Отсюда и совершенно «свободное» отношение к христианству, которое успешно демонстрирует В.В. Розанов в нефилософской части своего творчества, которую он, тем не менее, именует «метафизикой христианства».
Но вот и совершенно иные по духу и логической подоплеке высказывания В.В. Розанова. И как раз по поводу православной традиции, церковной службы, русского духовенства.
«Между тем священник, поднимая Евангелие над народом, истово говорит возгласы, с чувством необыкновенной реальности, «как бы живое еще». А диакон громогласно речет: «Вонмем». Диакон «речет» с такой силой, как Вольтер - в Фернее, а вовсе не как Вольтер в 1840-м году, когда его уже ели мыши. И приходит мысль о всей Революции, о «всех их», что они суть снедь мышей. Лет на 300 хватит, но не больше - пара, пыла, смысла.
От чего же дьякон так речет, а Вольтер так угас?
И при жизни Вольтера его слово не было особенно ценным. Скажите сразу, не думав, что сказал Вольтер дорогому человеку на все дни жизни и истории его? Не придумаете, не бросится на ум. А Христос: «Блаженны изгнанные правды ради». Не просто «они хорошо делают» или «нужно любить правду, нужно за правду и потерпеть», а иначе:
«БЛАЖЕННЫ ИЗГНАННЫЕ ЗА ПРАВДУ, ИБО ИХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
Как изваяно. И стоит 1990 лет. И простоит еще 1990 лет…
Евангелие бессрочно. А все другое срочно - вот в чем все дело.
И орет дьякон. И я, пыльный писатель, с пылью и мелочью в душе и на душе, стоя в уголку церкви и улыбаясь, и утирая слезы, скажу и весело и грустно:
Ори, батюшка, сколько утробушки хватит. И «без сумления» кушай, придя домой, устав, гречневую кашу и щи, и все что полагается, со своей матушкой-дьяконицей, и с детушками, и с внуками. Вы на прочном месте стоите и строите в жизни вечную правду».
Дьякон орет потому, что стоит «вот здесь», на месте истины. В нем то, что истинно есть. И никакого самоуничижения со стороны Розанова. Увидеть собственную пыль на душе, ведь это и значит оказаться в свете истины, а значит, в соприсутствии Истины. Горестное созерцание собственной «запыленности» этого стоит. Эти и ему подобные прозрения Розанова можно охарактеризовать как философскую интуицию. Но логику ее мы рассмотрим на ином примере.
Розановские воспоминания об Италии. Флоренция. Розанов заходит в церковь, которая оказалась расположенной напротив его гостиницы. Идет богослужение, но храм почти пуст. «В первый раз, когда я вошел в него, за стеклянной, вполовину с деревом перегородкой главного алтаря сидели на скамьях едва ли менее 80 патеров и вообще служителей и прямо кричали, орали, смелым мужественным голосом, молитвы, не замечая и не обращая внимания, что в церкви никого решительно кроме меня не было. Я всмотрелся за стеклянную перегородку. И патеры сидели почти в темноте. Но посредине на пюпитре лежала чудовищной величины развернутая книга со словами и нотными знаками, длиной и толщиной как цифры на стенных часах, и эта книга одна в целом соборе была освещена сосредоточенным от абажура светом: по ней-то и пели патеры. Служба закончилась, и они, - продолжает Розанов, - встали, нимало не спеша, поводя плечами, как солдат, надевающий ранец, и пошли своей неусталой, крепкой походкой, грубо и твердо. Я перекрестился по православному. Кой-кто посмотрел на меня в темноте. «Ты зачем тут? И тебя нам не надо, никого не надо. Мы одни тут и совершенно счастливы. Бог и мы».
Впечатление такое, как и повсюду в Италии: «Ну, с ними довольно трудно разговаривать о соединении церквей. Они сшибут вас с ног, просто самым движением, присутствием своим, раньше, чем вы успеете договорить первую фразу «предложения»; сшибут - и перейдут через вас, и пойдут к своим целям, и заорут как здесь… без воспоминания о вас, без сожаления вас, потому, что им нужно и хочется петь по этой огромной средневековой книге, как соловью слепому, который поет и упивается, и до мира ему нет дела и до слушателей». И дальше, намой взгляд, самое главное: «Это - вера».
Здесь в розановском утверждении заявляет о себе философская интуиция. Под «этим» подразумевается некое единичное событие, свидетелем которого стал во Флоренции Розанов. Но у него особый онтологический статус, в этом одном схватывается все, вся полнота веры, как у Пастернака «все яблоки, все золотые шары». Никакой иной веры, помимо увиденной здесь и сейчас, нет. Все уместилось в одном и вместе с предметом приходит к ясности самосознания и сам автор.
Уже в следующем предложении В.В. Розанов, сравнивая католицизм с православием, употребляет слово «тоже». Да, это тоже вера. Но начинает он не со сравнения. Ведь будь так, оказалось бы, что есть некая абстрактная, предваряющая конкретный факт веры общая, невидимая, неощущаемая вера, и у нее есть свои, дедуктивно выводимые из нее разновидности. Одна, а потом другая и третья. И можно теперь поспорить, какая из них все-таки в большей степени соответствует тому, что мыслится в общем понятии. В результате возникает разговор по большей части беспредметный, так как веру как таковую, если допустить ее возможность до конкретных образов никто никогда не видел. У Розанова ее видение присутствует именно в конкретном образе. Притом и в православной и в католической разновидности этого образа вся, целиком. И там и там «это - вера», «это другая, но тоже вера» (в смысле вся, целиком вера), законов которой мы не можем рассудить по совершенно особенным законам нашей веры. Розановское «это - вера», или в полном логическом развороте «это есть вера», соотносимо с «мыслю, следовательно, существую» Декарта. И там и там мы имеем дело не с умозаключением, а с целостной интуицией. В «этом» вся вера, в мышлении - существование.
Розанов - мастер подобного рода схватываний. В тех же итальянских впечатлениях, в главе «Пасха в соборе Св. Петра», он описывает событие причастия. «Вдруг вышли шесть священников, с толстыми и высокими, как у нас, пудовыми свечами, но только в рост человека длиною, и стали на колени позади молящегося кардинала. Старичок еще повысил голос, еще унежил его. Было положительно хорошо, даже для православного, и не художественно, а религиозно хорошо. Какая-то ангельская минута, умиление, разлившееся по храму. Кардинал поднял причастие и придвинул к себе: у него руки не только задрожали, но, как говорят, «ходуном заходили», он весь затрясся, он боялся страшно, как я не видел никого у нас и никогда за причастием, и причастился.
В туже минуту обедня кончилась.
Он верует, - подумал я, - О какие пустяки, что они все не веруют, безбожники. Служат сатане, а не Богу (Идея Достоевского в Легенде об Инквизиторе) и т.п.
Кто так взирает на Тело и Кровь Господню, верует в причастие. А если он в причастие верует, то и во все верует, т.е. во все христианство, во весь круг христианского спасения.
И я вышел с веселым сердцем».
Вот опять «все в одном». Только теперь уже по большему кругу. Теперь уже «Это есть христианство», понимаемое в его онтологическом, бытийном значении, а не в отвлеченных терминах религии или мировоззрения, не как предмет опасных спекуляций. Ведь в увиденном Розановым являет себя полнота жизни: Богоприсутствия, в сравнении с которой все розановские гимны Биологии, ничего не стоят. Ведь там жизнь так или иначе чревата смертью, а здесь путь от жизни к жизни, какой уж тут «темный лик», что можно найти темного в чаше причастия?
Кроме того, мы видим, как реализуется излюбленная розановская витальность в чувственном материале его собственных интуиций, но на сей раз именно философских. Дьякон орет как младенец, живет супружеской, семейной жизнью, ест аппетитно кашу. Все как у нефилософского Розанова. Но теперь эти вещи стали на место, потому что теперь они соотнесены с точкой, где диакон орет, благодаря тому, о чем он «орет», с местом самой веры. Все его телесные занятия уже не увлекают, не поглощают собой человека. Теперь они субординированы духом, и каждое свободно живет в своих пределах, и являют собой уже не самих себя, а жизнь личности.
Удерживаются в пределах своей личности. «Патеры» исполнены исполинской мощью, готовы сшибить все препятствия на пути веры. Здесь витальность именно собрана вокруг духовного центра, священной книги. Это видение, за которым мы вправе предположить философскую интуицию, и позволяет Розанову столь свободно и безошибочно рассуждать о соотношении христианских конфессий и христианстве в целом, пока сохраняются эти интуиции, пока «Все есть одно».
Журнал «Начало» №15, 2006 г.
Розанов В.В. Сочинения. М., 1990. Т. 2. С. 293.
Там же. С. 294.
Гиппиус З. Живые лица. «Искусство», Ленинградское отделение, 1991. С. 115–116.
Розанов В.В. Сочинения. М., 1990. Т. 1. С. 446–447.
Розанов В.В. Сочинения. М., 1990. Т. 1. С. 611.
Розанов В.В. Иная земля, иное небо… М., 1994. С. 217–218.
Розанов В.В. Иная земля, иное небо… М., 1994. С. 100–101
Парадоксальность мышления В. Розанова, наличие в сочинениях философа абсолютно противоположных тенденций, является общеизвестными фактами, которые многие исследователи признают принципиальной позицией Розанова, не пытаясь найти некую «результирующую» противоположных тенденций. Это очень удобная позиция, позволяющая ограничиваться «позитивистским» констатированием мнений философа: с одной стороны... - с другой стороны... Однако, как известно, два противоположных мнения в одной голове - это шизофрения. Вряд ли такой подход хоть в малейшей степени позволит нам понять значение Розанова в истории русской мысли, скорее, наоборот, его итогом будет подозрение, что мы сильно преувеличиваем ценность розановского наследия.
Следует также вспомнить, что первый и самый капитальный труд Розанова посвящен как раз проблеме понимания, причем понимание рассматривается им совсем не так, как это было привычно для классического рационализма - как строгое следование законам формальной логики, а в том смысле, который в ХХ в. получил название неклассической рациональности. Понимание для Розанова - это сложный, диалектический и глубоко личный процесс, который никогда не может быть закончен, но который все-таки ведет к тому, что мы приближаемся к истине. При этом для Розанова понимание может быть только цельным, иначе - никаким. Совершенно прав В. Бибихин, который утверждал, что эта книга - алфавит всех последующих текстов Розанова, и не сверяясь с этим алфавитом в них ничего нельзя понять 1 .
Все сказанное в первую очередь должно быть отнесено к важнейшему слагаемому философских взглядов Розанова - к его представлению о религиозном содержании жизни и культуры, т. е. прежде всего к его взглядам на христианство. Представляется совершенной нелепостью мнение о том, что Розанов, с одной стороны, резко критиковал христианство и христианскую церковь, а с другой стороны, признавал его необходимой формой существования отдельного человека и европейской культуры в целом, и при этом в противопоставлении двух точек зрения не обладал твердым убеждением в отношении христианства, которое совмещало бы эти две полярные позиции и возвышалось над ними.
На самом деле критическая позиция Розанова относительно христианства является гораздо более неизменной и последовательной, чем этого хочется ревнителям церковной традиции 2 . Для того чтобы правильно понять эту позицию, важно увидеть еще одну важную особенность философских воззрений Розанова - тот факт, что он в очень большой степени испытал влияние двух величайших мыслителей второй половины XIX в., В. Достоевского и Ф. Ницше. Причем это касается как формы, так и содержания розановских идей. Влияние Достоевского, конечно, является более капитальным и глубоким, однако мы рассмотрим влияния идей Ницше, поскольку в отношении представлений о христианстве это влияние гораздо более очевидно и помогает многое понять в пресловутых «противоречиях» Розанова.
Оценка философии Ницше была очень разной на разных этапах генезиса философской мысли Розанова. В начале своего творческого пути, вплоть до последних лет XIX столетия, Розанов резко отрицательно относится к идеям Ницше. При этом создается впечатление, что он знает об этих идеях только понаслышке, поэтому его критика относится не столько к философии Ницше как таковой, сколько к расхожим стереотипам в понимании этой философии. В 1896 г. в постскриптуме к статье, посвященной анализу концепции Л. Толстого о непротивлении злу, Розанов прямо утверждает: «Стрелка попорченных часов может делать какие угодно любопытные движения, но она не может показывать время; Ницше, в течение 14 лет медленно сходивший с ума (наследственная болезнь) и в эти именно годы написавший свои сочинения, мог написать в них много любопытного, но все это любопытное имеет тот недостаток в себе, что оно - не истинно» 3 .
Очень важно отметить, что в этот период взгляды Розанова на церковь и христианство не отличались существенной оригинальностью. В той же статье он критикует Толстого за то, что тот возводит «клевету на самого Спасителя» 4 , утверждая, что Тот проповедовал принцип непротивления. В споре Толстого с Русской православной церковью Розанов в этот момент был всецело на стороне церкви (как известно, позже он встал на сторону Толстого): «Человек борется - прежде всего со злом в себе; а потом - и со злом в другом, помогая ему. В целой своей жизни, во всей истории - он борется божественными силами, в нем заключенными (“Божией искрой”, как прекрасно усвоено у нас), против сил демонических. Церковь и суд - краеугольные камни этой борьбы. Церковь влечет нас к Богу; она не нудит; она в себе самой, в святости своего научения, в благодатных своих дарах содержит источник великого притяжения, и сильнейшие из нас тяготеют к добру только через нее» 5 .
Первую попытку «выпрямить» взгляды Розанова в «нужном» направлении предпринял еще в последние годы жизни Розанова П. Флоренский, и был вынужден раздраженно констатировать, что тот не поддается «выпрямлению»; об этом с нескрываемой иронией пишет В. Бибихин в одной из своих работ, посвященных Розанову (см. Бибихин В. В. Другое начало. С. 131-132).
Вряд ли Розанов получил бы славу одного из самых оригинальных русских мыслителей, если бы он остался при такой системе идей, ничем не выделявшей его из бесчисленной когорты умеренно либеральных («тепло-хладных») и вполне православных публицистов конца XIX - начала ХХ в. Но уже после нескольких лет пребывания в Петербурге (он жил в столице с 1893 г.) Розанов резко меняет свои убеждения; первые годы ХХ в. демонстрируют произошедшую в нем резкую метаморфозу, в первую очередь это касается его взглядов на церковь и христианство. Важно заметить, что в дальнейшем взгляды Розанова останутся практически неизменными, несмотря на часто присутствующую парадоксальность формы выражения этих взглядов и даже явное желание эпатировать публику. Розанов переходит на позицию резкой критики церкви и самого христианского учения. Мы считаем, что эта перемена позиции может быть объяснена более внимательным и гораздо более положительным восприятием философии Ницше. Совершенно не случаен тот факт, что параллельно с переменой взглядов Розанова в отношении церкви разительная перемена происходит и в отношении его восприятия философии Ницше.
В работе «Небесное и земное», впервые опубликованной в 1901 г., Розанов уже вполне положительно относится к определению христианской нравственности у Ницше как «религии рабов», он только уточняет и развивает это определение: «Бедный Ницше называет христианскую нравственность “моралью рабов” и новизну христианства находит в том, что это рабы взбунтовались против господ и основали царство “нищих духом”, “кротких”, “послушных”. Но разве когда-нибудь в истории императорского Рима и восточных деспотий поднималась такая властительная аристократия, какая выработалась у “кротких” и начала вырабатываться с самого их появления?! История и психология и механизм выработки авторитета и вообще властительных элементов в христианстве есть одна из самых великих тем, пройденных историками мимо» 6 . Любой, кто хоть чуть-чуть знает Ницше, поймет, что обозначенная Розановым «великая тема» совершено естественно входит в проблемный круг критики христианства у Ницше, Розанов просто оттеняет то, что наиболее близко ему самому в этом проблемном круге. Далее он формулирует одну из важнейших идей своей собственной критики, полностью аналогичной той, которую развивает Ницше: «Авторитет в христианстве и имеет в себе ту острую и страшную, страшную и сладкую особенность, что в нем “склоненныя выи” любят склонившее их ярмо. “Рабы” обливают слезами десницу “господ” своих. Сперва - любя, а потом - уже и невольно любя. Княжеский пир добровольно склонил свою голову перед старцем: но за ним частью вольно, а частью и невольно склонила ее вся Русь. Идея “греха”, “грешного мира”, созданного и владеемого диаволом, ниже и ниже погружала мир в темницу, в узы самой мрачной духовной зависимости» 7 .
Далее мы еще будем говорить о принципиальных совпадениях в критике христианства у Ницше и Розанова, однако важно понять, что Розанов воспринял у немецкого философа не только этот, все-таки вторичный, идейный план, но и самые главные концепции - прежде всего концепцию сверхчеловека. В одном из фрагментов книги «Мимолетное. 1914 год», Розанов рассказывает о поразившем его случае, когда он видел тяжелого, грузного быка, который под влиянием импульса желания побежал за коровой, причем его бег в своей стремительности и красоте совершенно не соответствовал обычным природным задаткам этого животного. Это прекрасный акт преодоления ограничений собственной природы Розанов вновь рассматривает как подтверждение правоты мыслей Ницше: «.этот бег, я думаю, был прекрасен. Он красивее прыжка льва, полета орла. У тех уж все приноровлено, и они для того созданы. Но бык явно и не создан и не приноровлен для этого. Что же я видел? Чудо. Он одолел всю свою природу, все свое устройство, план и волю Сотворившего его, - и стал Я САМ 8 . Он выступил из границ своих и исполнил мечту Ницше. Но я-то подсмотрел - другое. Мечта Ницше о сверхчеловеке исполняется вообще существами в эти чудные миги, когда бык “распластанно парит”, а “лошадь покушается на жену Геракла” и вообще в природе творится “неладное’.. Но - какое прекрасное “неладное’.. Ах, я тоже стар и глуп, как тот вялый бык, но я понимаю,..» 9
Согласно Розанову, Ницше обозначает новый этап в развитии европейской философии: на смену «профессорской» философии, которая не вызывает у Розанова никакой симпатии, идет философия переставшая быть «системой мысли» и ставшая «системой человека», отражающая дух «очень высоких и законченных человеческих личностей, громадно влиявших на свое время» 10 . Розанов даже называет Ницше «очень раннею ласточкою, приведшею “другое время года” нашей цивилизации» 11 . И признает от имени всего своего поколения, что оно ищет у Ницше не чего-либо иного, но святости: «“Святость”, дорогого чего-то, искали больше, чем основательности, и у Шопенгауэра, и у Нитше, несмотря на его “а-морализм”... Ищут чего-то снимающего раны, утешающего: “Дух-Утешитель, придет”: это, что ли? Похоже и на это, как похоже и на бурю Утешение.» 12 Ницше до такой степени становится для Розанова образцом философствования, что он своих любимых мыслителей начинает мерить «мерой Ницше».
В статье 1910 г., посвященной 50-летию кончины А. Хомякова, Розанов характеризует Хомякова как «одного из самых значительных и влиятельных русских людей за весь XIX век» и одновременно утверждает, что он выдерживает сравнение и с лучшими умами Европы: «Его мысль, - прилагая европейские оценки, - стоит в уровень, по качеству и силе, с Шопенгауэром и Ницше» 13 . В том же 1910 г. Розанов пишет статью о К. Леонтьеве, в которой проводит параллель между Леонтьевым и Ницше (это сравнение повторяется и в других работах, посвященных Леонтьеву). Задав себе вопрос о том, что такое Леонтьев, Розанов отвечает так: «Фигура и гений в уровень с Ницше. <...> Леонтьев, идейное родство которого с Ницше гораздо ближе, чем далекое и даже проблематичное родство с ним Достоевского, - был не профессор, а глубоко практическая, и притом страстно-практическая, личность. Медик, гувернер, журналист и романист, дипломат, монах и, наконец, отшельник Оптиной пустыни, - он был, как сабля наголо: он не только “переступил бы порог” своего дома, но сейчас бы и бросился в битву, закипи она на улицах. С кем в битву? С теми же кумирами, которые разбил и Ницше. За какие идеалы? За те же, каким поклонялся Ницше» 14 . Парадоксально, но Розанов считает Леонтьева даже более радикальным мыслителем, чем Ницше: «.это был Ницше не в литературе, а Ницше в действии» 15 . В этом контексте уже не выглядит невероятным утверждение, что Леонтьев - это «дьявол в монашеской куколе, - бросившийся в Оптину пустынь только оттого, что ему нельзя было броситься в Сиракузы к какому-нибудь тирану Дионисию (к которому путешествовал Платон) <...>» 16 .
Параллели между взглядами К. Леонтьева и Ф. Ницше проводились неоднократно (об этом писал, например, С. Франк), вплоть до наших дней, но сейчас все-таки гораздо более известно и популярно сравнение с Ницше самого Розанова. Это соотнесение кажется нам абсолютно законным: титул «русского Ницше» по праву может быть закреплен именно за Розановым (хотя есть определенные основания для отнесения его к Льву Шестову). Однако в большинстве случаев, когда проводится такое соотнесение, имеется в виду сходство формы философствования, а именно нарочитая фрагментарность, бессистемность, даже противоречивость дискурса, точно так же как и свойственное обоим мыслителям стремление к эпатажу. В противоположность этому мы считаем гораздо более важным содержательную близость Ницше и Розанова. Причем, как ни покажется это странным, сравнение взглядов немецкого и русского мыслителей в этой плоскости помогает внести больше ясности и последовательности в философские взгляды Розанова. Ведь проделанная в последние полвека работа по интерпретации наследия Ницше позволила сделать его систему идей гораздо более связной и цельной; эта цельность проступает и во взглядах Розанова, если увидеть в них творческое преломление идей Ницше. Это преломление особенно очевидно в части представлений Розанова о христианстве.
Взгляды Ницше в этой области являются гораздо более сложными и глубокими, чем это кажется при поверхностном прочтении его трудов. Хотя в расхожем мнении он до сих пор предстает «антихристом», ниспровергателем всех христианских ценностей, на деле это мнение ничего общего не имеет с действительностью. Любой, кто внимательно прочитает главное сочинение Ницше на эту тему, трактат «Антихрист», без труда поймет, что «проклятие христианству», произносимое Ницше, относится только к исторической церкви, которая радикально исказила учение своего основателя, Иисуса Христа. А вот само это учение («благовестие») Ницше оценивает вполне позитивно, более того, подчеркивает его непреходящее значение для европейского человечества вплоть до наших дней.
Ницше признает, что «психологический тип» Спасителя был резко искажен в истории, как были искажены сами Евангелия, но несмотря на это он претендует на то, чтобы увидеть сквозь все искажения этот подлинный тип. Ницше прежде всего фиксирует явное противоречие двух планов изображения Христа в Евангелиях: в одном он предстает «проповедником на горах, море и лугах, появление которого так же приятно поражает, как появление Будды», в другом - «фанатиком нападения, смертельным врагом теологов и жрецов» 17 . Только первый план Ницше считает отражающим истинный образ Иисуса, второй же - целиком сочиненный «общиной», церковью ради целей борьбы со своими земными противниками.
Самое главное в правильно понятом образе Иисуса - это сама его жизнь, дающая совершено новый, невиданный образец человеческой жизни. Именно пример жизни и есть то благовестив, которое принес людям Иисус. Этот новый опыт жизни настолько необычен, непередаваем, что он не укладывается ни в какое строгое учение, ни в какой догмат, ни в какую застылую форму. «Понятие “жизни”, опыт “жизни”, какой ему единственно доступен, противится у него всякого рода слову, формуле, закону, вере, догме. Он говорит только о самом внутреннем: “жизнь”, или “истина”, или “свет” - это его слово для выражения самого внутреннего; все остальное, вся реальность, вся природа, даже язык, имеет для него только ценность знака, притчи. <...> такой символист par excellence стоит вне всякой религии, всех понятий культа, всякой истории, естествознания, мирового опыта, познания, политики, психологии, вне всяких книг, вне искусства, - его “знание” есть чистое безумие, не ведающее, что есть что-нибудь подобное» 18 .
Суть нового опыта жизни, который принес Иисус, заключается в устранении дистанции между человеком и Богом, в демонстрации возможности раскрытия в человеке божественного совершенства, вечности и абсолютности его бытия. «Во всей психологии “Евангелия” отсутствует понятие вины и наказания; равно как и понятие награды. “Грех”, все, чем определяется расстояние между Богом и человеком, уничтожен, - это и есть “благовестие”. Блаженство не обещается, оно не связывается с какими-нибудь условиями: оно есть единственная реальность; остальное - символ, чтобы говорить о нем.» 19 Ницше очень тонко подмечает, что так понятое благовестие Иисуса несовместимо с иудаизмом, оно упраздняет иудейское учение о Боге, который требует от человека «веры» и «исполнения закона». «Не “раскаяние”, не “молитва о прощении” суть пути к Богу: одна евангельская практика ведет к Богу, она и есть “Бог”! - То, с чем покончило Евангелие, это было иудейство в понятиях “грех”, “прощение греха”, “вера”, “спасение через веру”, - все иудейское учение церкви отрицалось “благовестием”» 20 .
Перенося абсолютный центр бытия в человеческую личность благовестие Иисуса отрицает сверхчеловеческую реальность Абсолюта, Бога; все, что традиционная религия (иудаизм) говорила о Боге, теперь должно быть отнесено к человеку, к его возможным состояниям - к которым каждый должен стремиться в своей жизни и реальность которых показывает жизнь Иисуса. «“Царство Небесное” есть состояние сердца, а не что-либо, что “выше земли” или приходит “после смерти”. В Евангелии недостает вообще понятия естественной смерти: смерть не мост, не переход, ее нет, ибо она принадлежит к совершенно иному, только кажущемуся, миру, имеющему лишь символическое значение. “Час смерти” не есть христианское понятие. “Час”, время, физическая жизнь и ее кризисы совсем не существуют для учителя “благове-стия”... “Царство Божье” не есть что-либо, что можно ожидать; оно не имеет “вчера” и не имеет “послезавтра”, оно не приходит через “тысячу лет” - это есть опыт сердца; оно повсюду, оно нигде» 21 .
По существу, Ницше излагает то представление о развитии христианства, которое впервые было высказано в XIX в. благодаря тому, что началось научное (историкофилологическое) исследование всего комплекса раннехристианских памятников (в частности, в «тюбингенской школе», которую упоминает Ницше). В соответствии с этим представлением учение Иисуса Христа было радикально искажено в церковной, догматической традиции начиная с середины II в., а в своей исходной форме сохранилось только под видом гностических ересей; в последних самое главное - как раз единство человека и Бога, наличие в человеке «божественной искры», которую каждый человек призван раскрыть, сделать актуальной, и это придаст его существованию божественное совершенство, что и демонстрирует своей жизнью Иисус Христос. В наши дни такое видение ранней истории христианства обретает все больше убедительных доказательств, особенно в связи с находкой подлинных гностических текстов в библиотеке Наг-Хаммади 22 , в то время как традиционное представление о церкви как «верной хранительнице» учения Иисуса становится все более сомнительным, существующим только в силу софистического аргумента, чрезвычайно характерного для приверженцев церковной традиции: «этого не может быть, поскольку не может быть никогда».
Однако вернемся к тому, как Ф. Ницше излагает историю христианства после смерти Иисуса Христа. В понятии церкви, констатирует Ницше «человечество преклоняется перед противоположностью того, что было происхождением, смыслом, правом Евангелия» 23 . В удивительном созвучии с тем, как об этом в те же самые годы в работе «Об упадке средневекового миросозерцания» (1891) писал Вл. Соловьев, Ницше утверждает, что с распространением христианства «вширь», на все большие варварские массы (особенно при императоре Константине), оно само становится «вульгарным» и «варварским», вбирая в себя все «подземные культы» Римской империи. «Судьба христианства лежит в необходимости сделать самую веру такой же болезненной, низменной и вульгарной, как были болезненны, низменны и вульгарны потребности, которые оно должно было удовлетворять. Больное варварство суммируется наконец в силу в виде церкви, этой формы, смертельно враждебной всякой правдивости, всякой высоте души, всякой дисциплине духа, всякой свободно настроенной и благожелательной гуманности» 24 .
Для того чтобы обеспечить покорность всех христиан церкви и ее служителям, были использованы отброшенные Иисусом представления иудейской религии: идей греха и искупления, а также представление о посмертной награде в виде мифического «Царства Небесного». «Грех - эта форма саморастления человека par excellence <...> изобретен для того, чтобы сделать невозможной науку, культуру, всякое возвышение и облагорожение человека; жрец господствует, благодаря изобретению греха» 25 . И еще: «шаг за шагом в тип Спасителя внедряется учение о Суде и Втором Пришествии, учение о смерти как жертвенной смерти, учение о Воскресении, с которым из Евангелия фокуснически изымается все понятие “блаженства”, единственная его реальность, в пользу состояния после смерти!..» 26 И самые важные, итоговые слова: «.в сущности был только один христианин, и он умер на кресте. “Евангелие” умерло на кресте. То, что с этого мгновения называется “Евангелием”, было уже противоположностью его жизни: “дурная весть”, Бу8а^е1шт. До бессмыслицы лживо в “вере” видеть примету христианина, хотя бы то была вера в спасение через Христа; христианской может быть только христианская практика, т. е. такая жизнь, какою жил тот, кто умер на кресте. Еще теперь возможна такая жизнь, для известных людей даже необходима: истинное, первоначальное христианство возможно во все времена» 27 .
Практически все эти же самые идеи и даже в тех же самых логических связях мы находим в творчестве В. Розанова, в первую очередь в его известных книгах «Около церковных стен» (1905), «Русская церковь и другие статьи» (1906), «Темный лик» (1911) и «Люди лунного света» (1911). Самая главная мысль, которую нужно четко зафиксировать, чтобы обозначить отношение Розанова в христианству и христианской церкви, - это представление о том, что в истории взаимодействовали, даже боролись между собой две формы христианства. Одна из них воплотилась в церкви и догматическом учении, вторая осталась только «подводным течением» в религиозной жизни европейского человечества. Но именно это «подводное течение» признается Розановым истинным, жизнеутверждающим направлением в христианстве, в то время как господствующее, «властвующее» христианство церкви он считает ложным, исказившим первоисходный импульс христианства. «Белое» и «черное» христианство - так называет Розанов эти две формы, связывая первую из них с жизнью и подлинными речениями Иисуса Христа, в то время как второе - это результат позднейших добавлений, сделанных уже первыми учениками, а затем и неисчислимым сонмом «последователей» Иисуса, не всегда понимавших суть его учения или даже сознательно искажавших его.
Эта идея помогает понять двойственность отношения Розанова к современной ему церкви (как к православной церкви, так и к западным церквям). И в этом моменте можно усмотреть самое разительное отличие его точки зрения от точки зрения Ницше. Для Ницше в церкви нет ничего положительного, он видит в ней только искажение того Завета, который принес Иисус Христос. Розанов в этом вопросе оказывается гораздо большим реалистом и диалектиком, понимающим внутреннюю диалектику жизни, всегда включающей и черные и светлые стороны. Церковь не только исказила и «умертвила» истину первохристианства, она все-таки вобрала в себя часть этой истины; и в той степени, в какой Розанов видит в церкви отражение этой истины, он признает церковь позитивным фактором европейской и русской истории. Хотя чаще он видит в ней именно искажения и утраты, поэтому резко критичные высказывания в отношении церкви, ее роли в истории и ее грядущей судьбы значительно превосходят достаточно редкие позитивные оценки.
В работе «Религия как свет и радость» (1899), представляющей собой рецензию на книгу священника Г. Петрова «Евангелие как основа жизни», Розанов очень четко высказывает мысль о противостоянии двух интерпретаций евангельской истины, которые он связывает с образами монаха Феропонта и старца Зосимы из романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы». Книга Петрова дала Розанову повод для указанного противопоставления, поскольку она выражает именно «зосимовское», «светлое» христианство, в противоположность «темному», которое господствует в православной церкви. Различие между ними касается отношения к земному миру и к земной жизни человека. В церковном учении мир предстает наполненным злом, темными силами, которые уводят человека от спасения и склоняют ко греху. Сама жизнь человека есть непрестанная череда заблуждений, страданий, греховных деяний, и по отношению к ней возможно только отрицание, религиозное осуждение и отречение. Суть христианской истины церковь видит в противопоставлении земного и небесного, в отказе от земли ради неба.
«Светлое» христианство Розанов считает первоисходным, т. е. настоящим, подлинным, укорененным в Евангелиях и связанным с жизнью и учением самого Христа, в то время как возникновение «темного», церковного христианства относит к Средним векам, осуществившим искажение евангельской истины. Главным пунктом возникающего здесь противопоставления является понятие греха и оценка значения и смысла Голгофы.
Идея творения мира благим Богом-Промыслителем, утверждает Розанов, должна вести к тому, чтобы оценивать мир как божественный, благой, подчиненный Богу, а не дьяволу. И даже история грехопадения первого человека не способна устранить светлое отношение к миру, поскольку голгофская жертва Христа по своему смыслу имеет значение устранения греха, восстановления божественной природы человека и мира: «.чтобы не страдал человек - Спаситель пострадал; чтобы, маленький и слабосильный, он не гнулся под грехом, - Спаситель тяжесть мирового греха взял на Себя; человек стал сейчас же через это абсолютно безгрешен, свободен от первородного греха и способен к греху лишь личному, у каждого своему ничтожненькому и легонькому, затираемому легко же добрым (малейшим) делом» 28 . И даже более того: «.единый наш грех после Спасителя и состоит в гипотезе, что мы еще грешны, все-таки не святы. Мы - святы: вот подлинный восторг христианина; мы - свободны (так и учили Апостолы) не внешнею независимостью, но внутреннею - от греха. Мы - в раю (душою): вот самоощущение человека, да и всей твари, с секунды, как изглаголилось на Голгофе: “жажду”» 29 .
Однако в «темном» христианстве церкви грех оказался сильнее Голгофы, сама Голгофа предстала только как страдания Христа, которые каждый должен разделить с Ним, а не как спасение для всех: «.именно в момент “Голгофы” образовалось в христианстве неумолимое искание страданий <.> люди слились не с Спасителем в Гефсиманской Его молитве, но именно с иудеями в их вопле: “Распни Его”. Юдаизм, иудейские крики; величайший излом сознания в истории. <.> через этот излом мысли все “дело” Иисуса, весь “акт искупления” прошел мимо человека и рухнул в какую-то бездну, в пустоту - никого и ничего не спасая (“не захотели сами спасения”, “со Христом - в темнице”)» 30 .
Именно этот «излом» стал определять суть христианства в Средние века. «Поднялась жгучая и острая идея вины, греха, страдания. Мир разделился и противоположился. “Небо” по-прежнему создано Богом; но “земля”, земное, неизменное, обыкновенное, если и не прямо, то косвенно, стало признаваться тварью диавола. Люди разделились на святых и грешных, очищаемых и очищающих, прощаемых и прощающих» 31 .
«Святые», «очищающие» и «прощающие», по Розанову, - это духовенство, которое постепенно захватило «власть» над людьми, используя идею греха: «.кто держит в руках абсолют - тот абсолютен. Был акт “искупления”, 1900 лет назад, “от греха, проклятия и смерти” <.> И кто держит или кому передано “искупление”, “врата Царства Небесного”, - тот и абсолютен» 32 . Но, заняв эту позицию, позицию «абсолюта», духовенство возвело себя на уровень Бога, отделив от Бога простых верующих, оно стало «экраном», заслоняющим от нас Бога. Именно в этом Розанов видит главную причину ослабления веры в европейском обществе, распространение безбожия и негативного отношения к самой церкви: «Они сдернули красоту с мира. Дивиться ли, что мир стал безобразен? На кого же нам жаловаться? Они сами выделали себе палача, беспощадного потому, что он глух ко всему святому, священному» 33 .
Таким образом, первохристианская истина была искажена тем, что «любовь» и «прощение» в церкви были замещены «властью» и «авторитетом»; но наряду с этим произошло и еще одно гораздо более глубокое и необратимое искажение: церковь покусилась на главное божественное качество человеческой личности - на свободу, она методично уничтожалась тем, что на первый план были помещены догматы и обряды, и произошла формализация религиозной жизни. Здесь Розанов в своей критике исторической церкви следует не только за Ницше, но и за Вл. Соловьевым (в его работах «Об упадке средневекового миросозерцания» и «Три речи в память Достоевского»). Этой теме Розанов посвятил одну из самых известных и ярких своих работ - статью (первоначально речь на Религиозно-философском собрании 1903 г.) «Об адогматизме христианства».
Самыми существенными из всех речений Иисуса Христа в Евангелиях Розанов считает слова, которые он интерпретирует как метафорическое описание Иисусом своего подлинного ученика, «верного Своего»: «Взгляните на лилии полевые: они не имеют одежд, но истинно говорю вам, что и Соломон не был прекраснее их в убранствах своих; взгляните на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, - и Отец Небесный питает их» 34 . Учение Иисуса - небесно в том смысле, что оно соединяет небесное и земное в образе небесной земной жизни, которая именно в своей «небесности» не допускает никакой формализации, которая по своей сути есть свобода. Но последователи Христа не удовлетворились этим и стали устранять из христианства жизнь и живое, устранять свободу и творчество: «.как Адам, не послушавшись Господа, начал шить себе одежды, так, не послушавшись предостережения Спасителя о лилиях и птицах, христиане начали шить полотнища догматов между IV-м и VII веками. На место Галилейских рыбаков выступили так называемые “учители церквей”: Петр и Андрей сменились Оригеном и Климентами. <...> Растительное христианство начало преобращаться в каменное; по-видимому, - более твердое, но - не живое» 35 .
Оборотной стороной формализации и догматизации христианства стало появление многочисленных ересей, в которых можно увидеть протест против умерщвления той жизни, которая жила и живет в самом евангельском духе, в тех «полевых лилиях», о которых говорит Христос. Из христианства ушло самое главное - таинственная глубина, связывающая человека с трансцендентным, с бесконечным, показывающая человеку его собственную бесконечность и абсолютность. Как утверждает Розанов, вместо того чтобы быть творческим, развивающимся и тем самым стимулирующим творческое развитие человека, христианство в церкви «придавило» человека идеей греха, оборвало его связи с небесным и абсолютным и тем самым стало силой, действующей против человека и культуры. Очевидно, что такое представление о роли христианской церкви в истории буквально совпадает с точкой зрения Ницше.
Однако Розанов верит, что истинное христианство продолжает жить наперекор церкви, и только его возвращение может способствовать возрождению европейской и русской цивилизации, преодолению того духовного и нравственного кризиса, который они переживают. Констатируя, что христианство «уходит» из Европы, Розанов одновременно уточняет, что уходит только ложное, формальное христианство церкви. Но пройдет какое-то время и оно возродится в свободной, духовной форме, ибо без Бога и без связи с бесконечным человек и человечество обречены на гибель («.в тишине, в благообразии вызреет, ну пусть через века - но вызреет слово, понятие, образ: “Бог”; вызреет и молитва к Нему, ну, пусть новая, необычная» 36).
Новое, духовное христианство уже не будет противостоять земной жизни человека, не будет отрицать бытие и жизнь, но будет помогать человеку в его движении к совершенству. Церковное христианство «примиряется» с земной жизнью людей, навешивая им на спину «мешок» с христианскими «добродетелями». Но, утверждает Розанов, это только затушевывает, а не решает вопрос о том, как любой человек становится подлинно религиозным, становится причастным подлинному христианскому духу. И он дает свое понимание этой проблемы: «Ибо ведь вопрос-то состоит в том, что же есть собственного и специального в моряке, а также в художнике, в поэте, в ученом и мыслителе, что связывалось бы. с религией?! Да самое бытие их, сочное и полное, без отрицания мотивов, страстей, капризов или гения, входит всей полнотою полнот в волю Отца небесного, о Котором и Сын сказал, что “без нея волоса не падает с головы человека”» 37 .
И этот, быть может, самый главный - метафизический - подход к сущности христианства, особенно наглядно показывает, что Розанов прямо следует за Ницше. Он, точно так же как и Ницше, во всех своих трудах развивает философию жизни. И именно бесконечность («полнота полнот») непосредственного бытия человека, его непосредственной жизни, которая никогда не может быть «схвачена» наукой, философией или какой-то иной формой рациональности, постигается, открывается в религии, в подлинном религиозном опыте, который Ницше удивительно тонко и глубоко описал в своей интерпретации жизни и учения Иисуса Христа.
Сегодня, как и в начале ХХ в., в эпоху когда над этими проблемами размышлял Василий Розанов, нам никуда не уйти от констатации того печального парадокса, что именно «антихристианин» Ницше дал самое точное выражение всей полноты и универсальности христианского опыта жизни, давно утраченного европейской цивилизацией. В связи с этим парадоксом в заключение уместно вспомнить слова Вл. Соловьева, которые Розанов сделал эпиграфом ко второму тому своей книги «Около церковных стен»: «Всякий, действительно верующий, и тем самым свободный от этих излишеств тупоумия, малодушия и бессердечности - должен с искренним расположением смотреть на прямого, откровенного, словом - честного противника и отрицателя религиозных истин. Ведь это, по нынешним временам, - такая редкость, и мне трудно вам передать, с каким удовольствием я гляжу на явного врага христианства. Чуть не во всяком из них я готов видеть будущего апостола Павла, тогда как в иных ревнителях христианства поневоле мерещится Иуда предатель» 38 .
Примечания:
1 Бибихин В. В. Каменный Розанов // Бибихин В. В. Другое начало. - СПб., 1998. - С. 258-259.
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2011. Том 12. Выпуск 3
3 Розанов В. В. Еще о гр. Л. Н. Толстом и его учении о несопротивлении злу // Розанов В. В. О писательстве и писателях. - М., 1995. - С. 19.
4 Там же. С. 12.
5 Там же. С. 17.
6 Розанов В. В. Небесное и земное // Розанов В. В. Около церковных стен. - М., 1995. - С. 160.
7 Там же. С. 161.
8 Здесь Розанов имеет в виду одно из важных понятий Ницше (“Само” в переводе Ю. Антоновского), которое тот применяет для описания человеческой личности; см.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. - М., 1990. - Т. 2. - С. 24.
9 Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год // Розанов В. В. Когда начальство ушло. - М., 1997. - С. 569.
10 Розанов В. В. Новые вкусы в философии // Розанов В. В. Во дворе язычников. - М., 1999. - С. 341.
11 Там же. С. 342.
12 Там же. С. 343.
13 Розанов В. В. Алексей Степанович Хомяков. К 50-летию со дня кончины его // Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 456.
14 Розанов В. В. Константин Леонтьев и его «почитатели» // Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. - М., 1996. - С. 555.
15 Там же. С. 556.
16 Там же.
17 Ницше Ф. Антихрист // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. - М., 1990. - Т. 2. - С. 657.
18 Там же. С. 658.
19 Там же. С. 658-659.
20 Там же. С. 659.
21 Там же. С. 660.
22 См.: Алексеев Дм. Античное христианство и гностицизм // Евангелие истины: двенадцать переводов христианских гностических писаний. - Ростов-на-Дону, 2008. - С. 15-62.
23 Ницше Ф. Антихрист. С. 661.
24 Там же. С. 661.
25 Там же. С. 675.
26 Там же. С. 665.
27 Там же. С. 663.
28 Розанов В. В. Религия как свет и радость // Розанов В. В. Около церковных стен. - М., 1995. - С. 18.
29 Там же. С. 19.
30 Там же. С. 18-19.
31 Розанов В. В. Небесное и земное // Там же. С. 159-160.
32 Розанов В. В. Из-за чего сыр-бор загорелся? (О генерале Кирееве и его хлопотах) // Там же.
С. 67.
33 Розанов В. В. Вынос кумиров // Там же. С. 414.
34 Розанов В. В. Об адогматизме христианства // Там же. С. 480.
35 Там же.
36 Розанов В. В. Вынос кумиров. С. 418.
37 Розанов В. В. Аскоченский и архим. Феод. Бухарев // Там же. С. 252-253.
38 Розанов В. В. Около церковных стен. С. 234.
Литература:
1. Алексеев Дм. Античное христианство и гностицизм // Евангелие истины: двенадцать переводов христианских гностических писаний. - Ростов-на-Дону, 2008. - С. 15-62.
2. Бибихин В. В. Каменный Розанов // Бибихин В. В. Другое начало. - СПб., 1998.
3. Ницше Ф. Антихрист // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. - М., 1990. - Т. 2.
4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. - М., 1990. - Т. 2.
5. Розанов В. В. Алексей Степанович Хомяков. К 50-летию со дня кончины его // Розанов В. В. О писательстве и писателях. С. 456.
6. Розанов В. В. Аскоченский и архим. Феод. Бухарев // Розанов В. В. Около церковных стен. - М., 1995.
7. Розанов В. В. Вынос кумиров // Розанов В. В. Около церковных стен. - М., 1995.
8. Розанов В. В. Еще о гр. Л. Н. Толстом и его учении о несопротивлении злу // Розанов В. В. О писательстве и писателях. - М., 1995.
9. Розанов В. В. Из-за чего сыр-бор загорелся? (О генерале Кирееве и его хлопотах) // Розанов В. В. Около церковных стен. - М., 1995.
10. Розанов В. В. Константин Леонтьев и его «почитатели» // Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. - М., 1996.
11. Розанов В. В. Мимолетное. 1914 год // Розанов В. В. Когда начальство ушло. - М., 1997.
12. Розанов В. В. Небесное и земное // Розанов В. В. Около церковных стен. - М., 1995.
13. Розанов В. В. Новые вкусы в философии // Розанов В. В. Во дворе язычников. - М., 1999.
14. Розанов В. В. Об адогматизме христианства // Розанов В. В. Около церковных стен. - М., 1995.
15. Розанов В. В. Религия как свет и радость // Розанов В. В. Около церковных стен. - М.,
1995.
"Что делать?", 07.09.2014.
Философия Фридриха Ницше и теория сверхчеловека сегодня.
15 октября 1844 года родился один из самых известных и популярных, что очень существенно, философов мира Фридрих Ницше. Об оригинальности его как философа и его философии пойдёт речь в очередной передаче "Что делать?" Почему Ницше пришёл к выводу о смерти Бога, на каком основании он вывел положение о появлении сверхчеловека. В чём суть моральной доктрины Ницше? Является ли она доктриной аморализма? Несёт ли Ницше ответственность за те политические и этические взгляды, которые в ХХ веке прямо апеллировали к его философскому наследию? Насколько популярна идея сверхчеловека среди сегодняшней молодежи, во многом придерживающейся ценностей индивидуализма? Вот только некоторые вопросы, которые будут обсуждаться в этой передаче.
Автор и ведущий: Виталий Третьяков.
Участники:
1. Эбаноидзе Игорь Александрович, главный редактор издательства "Культурная революция", кандидат философских наук
2. Синеокая Юлия Вадимовна, доктор философских наук
3. Жеребин Алексей Иосифович, доктор филологических наук, президент Российского союза германистов (Санкт-Петербург)
4. Вольский Алексей Львович, кандидат философских наук (Санкт-Петербург)
5. Скворцов Алексей Алексеевич, старший преподаватель философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Мы плохо всматриваемся в жизнь,
если не замечаем в не той руки,
которая щадя – убивает.
Ф. Ницше
1. Введение.
Социо-культурная ситуация середины и конца XIX века включает установление таких философских воззрений как позитивизм и материализм в западной и отечественной мысли. Господство логоса во многих сферах бытия привели к противоречиям в духовной и религиозной сфере. Одно из глобальных потрясений ХХ века – кризис христианства, с небывалой силой проявившийся в фашизме и коммунизме. Хайдеггер заметил (в своей работе о Ницше), что слова «Бог мертв» – это не тезис атеизма, а сущностный событийный опыт западной истории. Добавим, что это опыт не только Западной Европы, но и Восточной, прежде всего России, к тому же последствия этого грандиозного исторического катаклизма не преодолены и ныне. Ко всему прочему, проблемы эволюционизма и креационизма, христианской и научной картины мира, природы человека и греха, современной и христианской этики ждут своего разрешения. Подобное Розанов характеризует: «Наука христианская» стала сводиться к чепухе, к позитивизму и бессмыслице. «Видел, слышал, но не понимаю». «Смотрю, но ничего не разумею» и даже «ничего не думаю».
1 Крушение традиционной религиозной веры – факт неподлежащий сомнению, однако, если догмы сметены, это отнюдь не означает, что вопрос о месте религии в жизни решен.
Расхождение между притязанием, требованием и действительностью испокон веков было движущей силой христианства. Правда, нередко притязание, требующее невозможного, и действительность, отказывающаяся повиноваться требованию, могут спокойно сосуществовать, не соприкасаясь. 2 Но поскольку христианство является неотъемлемой частью культуры и мировоззрения европейского человека, колыбелью духа, то эти противоречия должны быть раскрыты и преодолены.
Особый интерес представляет критика христианства Фридриха Ницше и Василия Розанова, которые оказались выразителями этого кризиса христианства и, идеи которых переплелись в сознании интеллектуалов ХХ века. Ницше подходил к решению вопроса о месте христианской религии в жизни общества и человека с позиций морали и этики, которая в свою очередь согласуются с его концепцией воли и сверхчеловека, Розанов с позиций телесной чувственности, метафизики пола и эстетики.
Проблема христианства занимает в творчестве философов значительное место, оба уделяют огромное внимание решению религиозных вопросов. «О, как невинно, как неинтересно и незначительно отношение к христианству Чернышевского и Писарева, Бохнера и Молешотта по сравнению с отрицанием Розанова. Противление Розанова христианству может быть сопоставлено лишь с противлением Ницше, но с той разницей, что в глубине своего духа Ницше ближе ко Христу, чем Розанов, даже в том случае, когда он берет под свою защиту православие». 3 Очевидно, что критика христианства обоих философов достаточно резкая и обличающая негативные стороны религии, ее мифы и противоречия. Она касается всех форм осуществления веры, самой веры и символа веры, ее влияния на жизнь человека. «Христианство возникло, чтобы облегчить сердца; но теперь оно должно отягчить сердца, чтобы иметь возможность потом облегчить их. Этим предопределена его судьба». 4
Как заметил Н. Бердяев, Ницше и Розанов в своей критике часто сходятся во взглядах на проблему христианства, но есть моменты, где они словно дополняют друг друга. Положения, которые Ницше опускает или не замечает, находит и указывает на них Розанов и наоборот, то, что не замечает Розанов, дополняет Ницше, расширяя те или иные понятия. Это дает возможность выдвинуть гипотезу о взаимном дополнении высказываний философов относительно христианской религии и проблем, находящихся в этом философском ареале, и, если сложить взгляды на эту проблему того и другого философа, то получиться достаточно целостная и конструктивная, непременно особенная, критика христианства. К тому же, их подход к проблеме у Ницше «сверху», с позиций духа, а у Розанова «снизу», с позиции тела, является дополнением одного другим.
Д. Мережковский написал в своем капитальном продуманнейшем двухтомном исследовании о Толстом и Достоевском: «Последний и совершеннейший выразитель антихристианской культуры – Ницше на западе, а у нас, в России, почти с теми же откровениями – В. В. Розанов, русский Ницше» 5 , отождествляя обоих мыслителей, соединяя в одно, дает право на существование заявленной гипотезе.
В 1882 году Ницше написал в Генуе «Веселую науку», в одном из фрагментов которой – «Безумном человеке» – возникает тема «смерти Бога», авторитет Бога и церкви исчезает, на их место приходит авторитет совести, авторитет разума. Вопросы религии Ницше поднимает в «проклятии христианству» «Антихристе» (1888), работе принадлежащая к его последним творениям и напоминающая по стилистике памфлеты, и некоторые принимают ее за самохарактеристику автора. Неслучайно в одном варианте она переведена как «Антихрист», а в другом – «Антихристианин». Это его основной труд по проблеме христианства, где он раскрывает все основные положения его религиозных воззрений. Отдельные главы книг «Человеческое, слишком человеческое» (1878) и «По ту сторону добра и зла», написанной в Рапалло в 1886 году посвящены этой проблеме.
Почти все произведения Розанова – это скорее эссеистика с философским уклоном, но уже в первой своей книге он проявил себя как религиозный мыслитель. «Около церковных стен» (1905), «все статьи здесь собранные вращаются в прямых, понятных, сравнительно легчайших темах христианства» 6 , резюмирует сам Розанов. Изданная в 1910 году «В темных религиозных лучах» («Метафизика христианства») была сразу же запрещена, а тираж ее уничтожен, запрет был основан на религиозных соображениях, а мировоззрение Розанова было воспринято официальной церковью как «богоборческое». Эта «книга зарывается именно в христианские «флюксии», она исследует только тонкое, незаметное, бесцветное, безвидное, бездокументальное» 7 . В «Апокалипсисе нашего времени», своих предсмертных записках, философ еще более жесток – от собственной безысходности – и к миру, и к себе. И от безысходности именно Христа и христианство объявил виновниками вселенской катастрофы, которую наблюдал – ибо считал их движущей силой мира.
Источниками информации для исследования проблемы послужили книга К. Ясперса «Ницце и христианство», работа М. Хайдеггера посвященная интерпретации Ницше. Учебники по зарубежной и русской философии Б. Рассела, прот. В. В. Зеньковского. Критика Розанова, его антихристианских идей Н. Бердяевым, Д. В. Философовым, А. А. Измайловым.
Розанов и Ницше в своих трудах о христианстве затрагивают ключевые категории и положения религии, такие как Бог, Спаситель, грех, а так же указывают еще на страх, не только в связи с христианской концепцией рая и ада, и жертвенность. Исследовав эти моменты, можно составить заключительную картину их представлений о христианстве. Рассуждая об этих понятиях, как было замечено, расширяя и дополняя эти их, словно вместе трудятся над созданием шедевральной антихристианской идеи.
^
2. Понятия христианства.
Ницше и Розанов, обсуждая вопросы христианства, рассматривают и оперируют понятиями Бога, Христа, греха, жертвы, страха, спасения. Эти категории наиболее часто встречаются в их тексте, и с помощью этих понятий они характеризуют христианство с отрицательной позиции. Важно, каким смыслом они наделят каждую из категорий, и каким образом они дополняют друг друга. Понимая в узком смысле, например, категорию жертвы Розанов, дополняя его, Ницше дает более развернутую характеристику этого понятия, тем самым расширяя и саму интерпретацию христианства. Заметим, что, как правило, понятия категорий Ницше и Розанова не противоречат друг другу, а действительно дополняют.
2.1. Бог
«Христианское понятие о божестве (Бог как Бог больных, как Бог паук, Бог как дух) – это понятие есть одно из самых извращеннейших понятий о божестве, какие только существовали на земле; быть может, оно является даже измерителем той глубины, до которой может опуститься тип божества в его нисходящем развитии. Бог, выродившийся в противоречие с жизнью, вместо того, чтобы быть ее просветлением и вечным ее утверждением! Бог, обожествляющий «ничто», освящающий волю к «ничто»!
8 Давая такую дефиницию, Ницше исходит из наблюдения того, что в христианстве все в сущности воображаемое и причины, и действия, и природа, и психология – «мир чистых фикций», и «этот мир есть выражение глубокого отвращения к действительному»
9 и тот, кто страдает от этой действительности изобрел эти фикции и приобрел себе
доброго
бога.
По мысли Ницше, народ выражает свою благодарность за существование в божестве, и это божество должно быть и добрым и злым, приносить пользу или вред, быть другом или быть врагом, ибо представляет собой «народ, мощь народа, все агрессивное и жаждущее власти в душе народа» 10 . Но когда народ погибает, чувствует, что скоро исчезнет его вера в будущее, а покорность входит в его сознание, и подчинение становиться добродетелью – божество изменяется, становиться благим. Ницше называет это «противоестественной кастрацией» – «божество, кастрированное в сильнейших своих мужских добродетелях и влечениях, делается теперь по необходимости Богом физиологически вырождающихся, Богом слабых. Сами себя они не называют слабыми, они называют себя «добрыми»…» 11
Бог-скопец и у Розанова, только кастрированный иначе, лишенный творящего жизнь начала красотою Иисуса. Словно обращаясь к Христу, он пишет: «Ты оскопил Его. И только чтобы оскопить – и пришел. И что в Евангелии уже не «любят», а живут как «Ангелы Божии»: как в плавнях приднепровских, «со свечками закопавшись». О, ужасы, ужасы…» 12 Предтеча этого высказывания содержится в нашумевшей статье «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира», где Розанов рассуждает об эстетическом влиянии христианства на человека. Действительно, вкусив нечто поистине волшебного, человек обычно теряет интерес ко всему остальному. «И когда необыкновенная Его красота, прямо небесная, просияла, озарила мир – сознательнейшее мировое существо, человек, потерял вкус к окружающему его миру» 13 , тем самым, лишив мир его жизненной потенции. «А ведь мир-то – божий» 14 . Иными словами, кастрация Бога по Ницше – это отсечение необходимой «злой» части сущности Бога, и как следствие потеря равновесия с миром. А по Розанову – лишение функции воспроизводства – потеря жизни в мире.
Совершенно обессиленного бога рисует мысль Ницше и Розанова. К тому же «церковь открыла Бога народу как скупого, сокращающего и недоедающего», бога «скорбей», вечно «уменьшающего порцию» 15 . А иные толкователи, «ханжи и коровы из Швабии», чтобы хоть как-то разнообразить свою серую жизнь и жалкое существование, обращают ее в «чудо милости», «промысел», «спасение». Здесь Ницше говорит о неискушенных в филологии людях, которые даже бытовые мелочи воспринимают как проявление божьей воли. Но «бога, который лечит нас то насморка или подает нам карету, когда разражается сильный дождь, следовало бы упразднить. Бог как слуга, как почтальон, как календарь – в сущности, слово для обозначения всякого рода глупейших случайностей» 16 .
Из понятия были удалены все ключевые моменты, обеспечивающие равновесие между религией и миром, и Бог «опускается шаг за шагом до символа посоха для уставших, якоря спасения для всех утопающих» 17 . Более того, Ницше пишет, что Бог стал «вещью в себе», «чистым духом», «вздохом» по Розанову, выродившись в противоречие с жизнью, и это он называет падением божества. «Европа потеряла Бого ощущение , оставшись при одном Бого понятии » 18 , резюмирует Розанов. Он же и отмечает – Бог это не бытие, не всемогущество, а вскоре Ницше, подведя итог, объявит Бога мертвым. Несовершенство понятия Бога-Отца как раз и подкрепляется, по мнению русского мыслителя, рождением Сына. И это «нельзя понять иначе, как заподозрив отца в недостатке и полноте» 19 . Каков же сын кастрированного во всех смыслах отца?
2.2. Иисус Христос
Сын – неизъяснимо красивый идиот с трагическим лицом, совершенно немощный, но только он и есть истинный и единственный христианин. Подобный вывод следует из суммы размышлений об образе Иисуса Христа у Ницше и Розанова. Причем слово «идиот» Ницше понимает при этом точно в том же смысле, в каком Достоевский называл «идиотом» своего князя Мышкина. Розанов размышляет о «лице» Христа, трактует его деяния, в то время как Ницше исследует его психологический тип, и в соединении мыслей того и другого философов рисуется достаточно четкий, как мне представляется, правдоподобный портрет.
«Западное христианство, которое боролось, усиливалось, наводило на человечество «прогресс», устраивало жизнь человеческую на земле, – прошло мимо главного Христова. Оно взяло слова Его, но не заметило Лица Его» 20 . А лицо это – бесконечной красоты и бесконечной грусти. Розанов предполагает, что «Иисус действительно прекраснее всего в мире и даже самого мира. Мир вообще и весь, хоть очень загадочен, очень интересен, но именно в смысле сладости – уступает Иисусу. Во Христе прогорк мир, и именно от его сладости» 21 . Ко всему прочему, страдание идеальнее, эстетичнее счастья, грустнее, величественнее, а смерть это высшая скорбь и высшая сладость, она венчает все скорби, и в этих скорбях вся истома таинственной эстетики, и поэтому Христос есть трагическое лицо 22 , «вождь гробов». Именно смерть выбрана высшим идеалом христианства и «ничто из бытия не взято в такой великий и постоянный символ, как смерть» 23 . Церковная живопись и музыка являет собой зрелище, основанное на этом идеале, замечет Розанов: «нарисованы, собственно, мощи с отрытыми глазами, а поют – точно лики усопших из драгоценных рак» 24 .
«И образ Христа, начертанный в Евангелиях, – вот именно так, как там сказано, со всею подробностью, с чудесами и прочее, с явлениями и тому подобное, не являет ничего, однако, кроме немощи, изнеможения…» 25 Христос не посадил ни деревца, ни травки, ни предупредил ни одной войны и дороги железные не строил. Он ни чего не делает даже для своего спасения, не пытается избежать мучительной смерти, совершенно пассивен, его жизнь стремление и путь к смерти. Он «в сущности – не бытие, а почти призрак и тень; каким-то чудом пронесшаяся по земле. Тенистость, тенность, пустынность его, небытийственность – сущность Его. Как будто это – только Имя, «рассказ» 26 . Его бездействие и задало колорит тени.
При всей красоте Иисуса с ним одним человечество не проживет, оно погибнет во Христе. Ярким примером могут служить различные самозакапывания, самосожжения, и прочие самоистязания, которые носили массовый характер. Так же, по мнению Розанова, все мучения Христос принял для того, чтобы маленький человек не страдал, чтобы он отвернулся от греха. Но эта практика была понята совершенно иначе, и появилась подражательная традиция, неумолимое искание страданий. Путь Христа был воспринят как единственный путь спасения. «Мир стал тонуть около Христа. Наступил всеобщий потоп прежних идеальных вещей. И этот потоп называется христианством» 27 .
«Тот странный и больной мир, в который вводят нас Евангелия, – мир как бы из одного русского романа, где сходятся отбросы общества, нервное страдание и «ребячество» идиота» 28 . Этот русский роман – «Идиот» Ф. М. Достоевского 29 . Давая характеристику психологическому типу Христа, Ницше обращается к временам возникновения христианства и домысливает в своем русле, ибо, по его мнению, мы получили образ Спасителя в сильном искажении. С фанатизмом первых христиан этот тип, по мнению философа, изрядно огрубел – «обильная мера желчи перелилась в тип учителя из возбужденного состояния христианской пропаганды: достаточно известна беззастенчивость всех секстантов, которые стряпают себе апологию из своего учителя» 30 . По идее, предание должно быть верным и объективным, но все в нем заставляет предполагать противоположное, поскольку обнаруживаются невероятные противоречия, между образом Спасителя и его последующим толкованием. Первые ученики, чтобы хоть что-нибудь понять, переводили это неясное и символическое бытие Христа в более доступные их пониманию формы: пророк, мессия, будущий судия мира.
И откинув нарост из толкований, очевидной для Ницше становиться идиотичность Иисуса Христа, со всей строгостью физиолога, такая, какой обладает князь Мышкин. «Можно было бы с некоторой терпимостью к выражению назвать Иисуса «свободным духом» – для него не существует ничего устойчивого: слово убивает; все, что устойчиво убивает» 31 . Понятие жизни, жизненного опыта не согласуется ни с одной нормой или законом, он говорит только о самом внутреннем, интимном, и стоит вне всяких понятий. «Его «знание» есть чистое безумие» 32 . Он ведь ничего не знает ни о культуре, ни о государстве, ни об обществе, и тем более ничего не отрицает. Именно болезненным, представляется Ницше Христос, и диагноз – «инстинкт ненависти против всякой реальности, как бегство в «непостижимое», в «необъяснимое», как отвращение от всякой формулы, от всякого понятия, связанного с временем и пространством, от всего, что твердо, что есть обычаи, учреждения, церковь, как постоянное пребывание в мире, который не соприкасается более ни с каким родом реальности, в мире лишь «внутреннем», «истинном», «вечном» 33 . Жизненный путь Христа, как умер, как жил и как учил, «то, что он оставил в наследство человечеству, есть практика» 34 . Блаженство не обещается, указывает Ницше, оно есть единственная реальность, а все остальное лишь символ, а все историческое христианство грубое непонимание этого символа.
«В сущности, был только один христианин, и он умер на кресте. На самом деле вовсе не было христиан. «Христианин», то, что в течение двух тысячелетий называется христианином, есть психологическое самонедоразумение» 35 . Ницше пишет, что христианской может быть только практика, а основой этой практики является не вера, а дело, реализующееся в бездействии, поэтому истинное первоначальное христианство возможно во все времена.
Напомним, что Розанов усматривает негативное воздействие на человека, которое состоит в подражании этой практике. Но противоречия, на мой взгляд, здесь нет, так как, по сути, она является отражением «инстинкта ненависти против реальности», понятая как следствие крайней чувствительности к страданию и раздражению, но идущие по стопам Христа, этой ненависти не испытывают. Основой их действий является вера в то, что только таким способом можно спастись, обрести «Царство божье», тем самым убивают себя, не реализуя этой практики. «Ни одно слово этого анти-реалиста не должно пониматься буквально – вот предварительное условие того, чтобы он мог говорить» 36 . Ницше рассуждая на эту тему, имеет в виду непротиводействие реальности, которое возможно и вне христианской религии (буддизм, как религии decadence), а не целенаправленное искание страданий, приводящих к смерти.
Закончен портрет Сына. Число, подпись.
Коль скоро, согласно представлениям Ницше, бездействие и непротиводействие реальности суть жизненного пути и учения Христа, то каким образом туда закралось представление греха, и как стало одним из ключевых понятий христианства?
2.3. Грех
Греховность человека воображаема, заключает Ницше, а Розанов мыслит дальше – иллюзия греха создает грех. Грех то, чем определяется расстояние между Богом и человеком. Навязанные христианством представления о грехе рождают чувство неполноценности в силу априорной греховности человеческой плоти. «Но не иначе я узнал грех как посредством закона. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». (Рим 7:7, 7:9, 7:14) Это высказывание апостола Павла подчеркивает то, что христианство дало новое толкование поступкам человека. Ницше убежден, что в эту ситуацию человек попал благодаря ряду заблуждений разума. Люди считают друг друга, и самих себя гораздо более черными и злыми, чем на самом деле, а это облегчает наше сознание. «Это может быть сочтено ловким приемом христианства, когда оно столь громко проповедует полную нравственную негодность, греховность и презренность человека вообще, что при этом становиться уже невозможным презирать своих ближних»
37 . К тому же, всегда есть повод для недовольства самим собой, и под это чисто физиологическое недомогание, по мнению Ницше, и подсовываются понятия греха и греховности. Эта является неудачной попыткой объяснения неприятных общих чувств.
Маленькое психологическое наблюдение Розанова: подозрение человека в проступке, даже если он не виновен, отбрасывает на него дурную тень, – «какая унылость, апатия устанавливается в душе! И эта психика угнетенности наконец переходит в психику озлобления» 38 И от такой тяжести несправедливо обвиненный становиться на самом деле дурным, ищет и создает свою вину. Таким образом, иллюзия греха создает грех. «Вот психология: и кто не узнает ее, оглянувшись кругом на помертвелые, тусклые очи мира?» 39
Чрезмерные моральные требования, пишет Ницше, которые находятся в источниках христианского мировоззрения, сознательно ставятся таким образом, чтобы человек не мог им удовлетворить. Цель этих требований заключается не в том, чтобы сделать человека более моральным, а в том, чтобы человек чувствовал себя более греховным, чем есть на самом деле. «Человека нужно было всеми мерами заставить чувствовать себя греховным и тем вообще возбудить, оживить, одухотворить его» 40 .
И тот, кто избегает греха, аскеты, святые, по мысли Ницше, также бежит и от чувства ответственности за свои поступки, и связанных с ним мук раскаяния. Полное подчинение себя чужой воле влечет за собой отречение от личной воли, от трудности принятия решений, от ответственности за них. Чтобы облегчить себе жизнь человек «продал душу» Богу и отдал ему свою личность. Ницше пишет, что это не героический подвиг нравственности. «Во всяком случае, осуществлять без колебаний и неясности свою личность труднее, чем отрешиться от нее указанным способом; кроме того, осуществление это требует гораздо большего ума и размышления» 41 .
Розанов напоминает: «Спаситель тяжесть мирового греха взял на себя; человек стал сейчас же и через это абсолютно безгрешен, свободен от первородного греха и способен к греху лишь личному» 42 . Но природа человека двойственна, и это противоречие в рамках христианства разрешимо не в пользу жизни на земле. Потому человек пытается избежать личной ответственности, ибо «дела духа» объявлены праведными, а «дела плоти» грешными, и уповает на второе пришествие, переложив все обязательства на Бога, либо просто отказавшись от них. «Без грешного человек не проживет, а без святого – слишком проживет. «Дела плоти» и суть космогония, а «дела духа» приблизительно выдумка» 43 .
Сам Христос, чтобы быть «без греха», удалятся от мира, оставляет его, выбрав безгрешность, не-делание, вместо «дела». «Пирог без начинки. Вкусно ли? Но действительно: Христом вываляна вся начинка из пирога, и то называется христианством»
44 . Так как же он спас мир?
2.4. Жертва
Умерев на кресте. Самая великая жертва во искупление грехов человека – в жертву принесен Бог. «Как закон, обессиленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной
в жертву
за грех и осудил грех во плоти» (Рим. 8:3). Современные люди с притупленным по части всякой христианской номенклатуры умом уже не испытывают того ужасного суперлативного потрясения, которое заключается в парадоксальной формуле: «Бог на кресте»
45 . Так возникла идея христианской жертвы. В самопожертвовании есть что-то великое. «Божество, которое жертвует самим собой, было самым сильным и влиятельным символом этого рода величия»
46 .
Эта смерть была интерпретирована как желание Христа человеческой жертвы, жертвы страданием. «Крест, к которому пригвожден был Он, – это одно, и всего три дня; но он повлек за собой «крест человечества» – и этому насчитывается девятнадцать веков» 47 – пишет Розанов. Коль скоро Иисус пожертвовал для нас своей плотью, стало быть, и мы должны потерять все ради Христа, но для человека плоть это жизнь.
Существует большая лестница религиозной жестокости со множеством ступеней, но три из них, по мысли Ницше, самые важные. Некогда жертвовали животными или людьми, такими, которых больше всего любили. К ним относятся принесение в жертву младенцев. Затем в моральную эпоху жертвовали своей природой «эта праздничная радость сияет в жестоком взоре аскета» 48 Чем же осталось еще жертвовать?
Розанов, размышляя о перемене жертв, приходит к выводу, что наш теизм нереален. Отменены древние жертвы, потому что воняет этот убитый скот, но вместе с этим запахом из храмов исчезло и реалистическое отношение к богу. Для кого же мы жжем свечи и ладан, очевидно, что богу-духу этого не нужно. Для себя? Стало быть, жертвы мы? «Восторженная жертва человеков Небу» 49 . Или просто пережиток древних времен?
Все сложнее, по Ницше, осталась еще третья ступень лестницы религиозных жертв, и взойдет на нее будущего поколения и пожертвует самим Богом ради Ничто, из жестокости к себе – «парадоксальная мистерия последней жестокости» 50
Исчезли древние жертвы с появлением нового понятия Бога. Древние приносили жертвы, чтоб снискать милость Богов и страшась их гнева. Но христианский Бог добрый, Бог – любовь, «Милостивец», «Спас», но страх все равно не исчез.
2.5. Страх
Страх неизменно присутствует в религии, по мнению Ницше, где «все естественное, чему навязывает представление дурного, греховного (как он привык еще и теперь делать это в отношении эротического момента), отягощает, омрачает воображение, создает пугливый взор, заставляет человека враждовать с самим собой и делает его неуверенным и недоверчивым; даже его сны приобретают привкус измученной совести»
51 .
Страх становиться основным элементом христианства – «люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Лука 21:26) Такое «нагнетание страха на человечество – одна из метафизических сторон Евангелия, далекая от морального рационализма «возлюби ближнего своего». Страхом этим, как плугом, прошел наименовавший себя «Сыном Человеческим» по сердцам человеческим: и разрыхлил «почву» для принятия особенных семян своего учения» 52 . Розанов пишет, что исторически так было – всюду Евангелие воспринимали не как умиление и спокойствие, а трепетно и в страхе. «И до настоящего времени всякая «реставрация христианства» опирается на возбуждение чувств страха и неуверенности» 53 .
Концепция рая и ада заточена под этот элемент. Рай и ад это, по сути, изъятие свободной воли у человека, свободной реализации его личности. «Вечные мотивы Церкви, поставившей людей между страхом ада и обещаниями рая»
Трепет перед адом обуславливает христианскую мораль, и «любовь к ближнему» тут не причем 54 . Хотя, есть два вида святых: святой от природы и святой из боязни. Святой от природы искренне и непосредственно любит человечество, он делает добро потому, что это дает ему счастье. Святой из боязни, наоборот, подобен человеку, который не ворует, потому что боится полиции, и который был бы злым, если бы его не сдерживали мысли об адском пламени или о мести соседей. Ницше мог представить себе только второй тип святого: он настолько полон страха и ненависти, что искренняя любовь к людям кажется ему невозможной. Он никогда не представлял себе человека, который, обладая всем бесстрашием и упрямой гордостью сверхчеловека, тем не менее, не причиняет страданий, потому что у него нет такого желания 55 . Но святого от природы сумел разглядеть Розанов, в статье «Религия как свет и радость». Он писал, что его всегда волновали два персонажа Достоевского отец Зосима и отец Ферапонт. Зосима относился к святым от природы, а Ферапонт ко второму типу. Зосима – благословляющий, Ферапонт проклинающий. И противоречие этих двух концепций подтверждают позицию Ницше о том, что христианство возможно вовсе времена. Поскольку, такие как Зосима возможны во все времена и независимо от вероисповедания, а такие как Ферапонт только в христианстве, ибо страх перед геенной огненной определяет его любовь к ближнему своему. «Вообще «Ферапонт» – слишком возможен» 56 . Нельзя восхищаться добродетелью, в основе которой лежит страх. Но в силу жизненных обстоятельств, однозначная позиция Розанова относительно персонажа Зосимы меняется. В «Метафизике христианства» он пишет: «Да ведь это бледный, чахлый плод гибнущей религии, непонимающий, что она умирает. Зосима – это уступки человечеству, жалкому и слюнявому. Делать то, что велит нам Зосима, можно и без религии, и лучше его это делают откровенные безбожники» 57 .
Сущность любой религиозного убеждения Ницше видит в страхе перед истиной. «Глубокая недоверчивая боязнь неисцелимого пессимизма принуждает людей в течение целых тысячелетий вцепляться зубами в религиозное основание бытия: боязнь, присущая тому инстинкту, который предчувствует, что, пожалуй, слишком рано может стать обладателем истины, прежде чем человек сделается достаточно сильным, достаточно твердым, в достаточной степени художником» 58 .
^
3. Критика христианства.
Выяснив понятия христианства, которыми оперирует Ницше и Розанов можно попытаться составить их совместную концепцию антихристианской идеи. На вопрос «что такое христианство» решительно невозможно отвечать моральными ответами, пишет Розанов, нужно отвечать метафизически и доказательно, «ибо нам больно от нашего незнания. Мучительно»
59 .
Христианство это религия. А религия, по мнению Ницше, как и искусство, воздействуют на изменение сознание, «отчасти через изменения нашего суждения о переживании» 60 . Иными словами, человек склонен скорее перетолковывать бедствие, подстраивать под себя, приспосабливаться к нему, чем искать истинные причины и пытаться устранить их. В таком случае, какова ценность религии в вопросах познания? У древних вообще отсутствует понятие естественной причинности, и потому они склонны представлять природу «как совокупность действий существ, обладающих сознанием и волей, как огромный комплекс произвольностей» 61 . Это одна из попыток объяснить явления природы и подчиниться им, смысл которой принудить природу к выгодам человека, то есть внести в нее закономерность, которой она якобы не обладает. В настоящее время состояние современных знаний о мире таково, что задача человечества познать закономерность природы, чтобы подчиниться ей. И потому «никогда еще никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни аллегорически не содержала истины. Ибо каждая религия родилась из страха и нужды и вторглась в жизнь человека через заблуждения разума» 62 . Так Ницше объясняет возникновение религиозного культа. Так же «культ основан и на других, более благородных представлениях: он предполагает симпатическое отношение человека к человеку, наличность благожелательности, благодарности, внимание к просьбам, договор между врагами, обеспечение залогом, притязание на охрану собственности» 63 . Тем не менее, религия относиться к психологии заблуждения – в каждом отдельном случае причина смешивается с действием; или истина смешивается с действием чего-то считаемого истинным; или состояние сознания смешиваются с причинностью этого состояния 64 , – резюмирует Ницше. Религия, по мнению философа, тот анахронизм, который сохранился с древности.
Розанов пишет, что религия это тайна и этим ограничивается, возможно, интуитивно ощущая вслед за Ницше, что истины в ней не содержится. Но «столкнув» религию, человек останется при рационализме, а этого не нужно, «это была бы смерть религии как вечного спутника человека на земле, «ковчега» души его, который он проносит среди суеты» 65 . Религия вечна в человеке, каждый есть центр своей собственной религии, особенной, таинственной своей, и только от того, что люди вообще не несходны, что они сцепляются в массы, эти крошечные религии сливаются в одну, большую 66 , – таков ход мысли Розанова. Он исследует религиозное чувство человека, которое присуще каждому из людей. А «внутренний мир» религиозного человека похож на мир перевозбужденных и истощенных людей, пишет Ницше. «Высшие состояния», которые христианство навязало человеку как ценность всех ценностей, – это эпилептоидные формы» 67 .
Но христианство особенная религия. Розанов в своих размышлениях приходит к выводу, что существуют две религии – «религия мировой весны» и «религия мировой осени» 68 . К «религиям мировой весны» относятся все натуралистические религии, религии семени и потомства, где постулируются нормы молодости, невинности, энергизма. «Религия мировой осени» – христианство, религия скорби, мрака, наказаний, муки «бессемянного зачатия и бесплодия». Если эта анормальность «есть следствие греха, есть состояние вывиха, то христианство, настолько оно черно, настолько оно истолковано монашеством, – есть вообще религия вывихнутого состояния: оно есть «плач и скрежет зубовный» грешников, убийц, содомитов и вообще всего «Ноева ковчега», плавающего по океану, в котором собрано «все чистое в нечистое. И как одни в человечестве могут плакать, другим в человечестве нет причины не радоваться» 69 .
«Христианство есть мистическая песнь переходу из земного жития, всегда и непременно грешного в «вечную жизнь» – там» 70 . И это есть величайший пессимизм и отрицание земли и земного. Святейшее место в храме это частичка святых мощей, на которых возводиться Престол в алтаре, и без них нет ни храма, ни литургии – ничего. Мы поклоняемся кусочку трупа. Мы поклоняемся смерти. Идеал христианства смерть. Это невозможно выкинуть из христианства: «это его хребет и четыре ноги. «Гробом» оно бежит вперед, на гробе зиждется» 71 . Ибо смерть откроет нам врата в «царствие небесное», а смысл нашего пребывания на земле сводиться к праздности, бездействию и непротиводействию. Это психология больного человека, у которого нет сил бороться с реальностью, мало бороться – преобразовывать ее. «Царствие небесное» выдумка того, кто страдает на земле, а страдают сирые и убогие и их большинство. «Там, где толпа ест и пьет, даже где она поклоняется, там необыкновенно воняет. Не нужно ходить в церковь, если хочешь дышать чистым воздухом» 72 .
Христианство позиционируется как религия спасения и сострадания. Через сострадание теряется сила, пишет Ницше, христианство поддерживает то, что должно погибнуть. «Умножая бедствие и охраняя все бедствующее, оно является главным орудием decadence – сострадание увлекает в ничто» 73 .
«Религия и религиозное значение жизни озаряет светом солнца таких всегда угнетенных людей и делает их сносными для самих себя» 74 . И, являясь религией для страждущих, христианство признает именно их правыми, тех, кто страдает от жизни как от болезни. Христианство, пишет Ницше, стоит в противоречии со всякой духовной удачливостью, он нуждается только в больном разуме. Являясь, по сути, наркозом для людей оно лечит их верой во спасение. Вера делает блаженным, избавляет от тяготы земного существования, сомнение есть грех. Ранее упоминалась позиция западного философа, что добрый Бог понадобился тем, кто страдает от действительности: «христианство не было национальным, оно обращалось ко всем обездоленным жизнью, имело своих союзников повсюду, опираясь на злопамятность больных, обратило инстинкт против здоровых» 75 . Христианство было «только лекарством», зачем же оно здоровым? Чтобы сделать больными. Возникнув как пессимистическая религия, оно было привито совершенно здоровым и телом и духом людям, потянув их за собою в бездну мучений и страданий – к смерти. «Мы имеем дело с невропатологическою религиею, с «заразным контагием», но привитым к людям абсолютного душевного здоровья, здоровья повышенного, – темпераментов, умов и ярких сердец» 76 . Этим лекарством христианство словно выравнивает людей, удерживая «тип «человек» на более низшей ступени, они сохранили слишком многое из того, что должно было погибнуть» 77 . Над чем трудились «священнослужители Европы», спрашивает Ницше. Над тем, чтобы сохранить больных и страждущих, то есть по существу над ухудшением европейской расы. «Поставить все расценки ценностей на голову – вот что надлежало им свершить!» 78
«Небо было сошедшим на Землю, вера в это – есть сущность христианства» 79 . Вера – убеждение, и к истине никак не относиться. Таким образом, верующий принадлежит не себе, он может быть только средством. Вот на этом и спекулируют попы. Вся христианская вера – жертвоприношение. Жертвой становиться свобода, человеческая гордость, самоуверенность духа. Дело творения веры – отдание самого себя в рабство, самопоношение и самокалечение. Помимо веры, человек имеет страсть, и, осуществляя свою веру со страстью, он может прийти к самоубийству, не специально, а запостившись, например. Вера сильнейшая доведенная до равенства с реальным ощущением родила иллюзии относительно рая и ада, пишет Розанов. Ницше сумел докопаться до сути веры – «раз и навсегда закрывание глаз, чтобы не страдать от зрелища не исправимой лжи» 80 . Это высказывание должно быть понято однозначно – верить в ничто, чтобы не мучатся от понимания того, что все в мире оболгано в пользу этого ничто.
Церковь извратила даже историю человечества, превратив ее в предысторию христианства. «По моему представлению, – читаем у Розанова, – исторические судьбы христианства – тайна. Тайна заключается в такой великой иллюзии, выше которой ничто никогда не создавалось; и в такой комической действительности, ниже которой, пожалуй, тоже ничего не создавалось» 81 . Все понятия церкви Ницше признает за «самую злостную фабрикацию фальшивых монет, какая только возможна, с целью обесценить природу, естественные ценности» 82 . Растительное христианство становилось каменным, пишет Розанов, как только устанавливались догматы, с этого момента началось саморазрушение христианства, «проистекшим из какого-то не то отчаяния о Боге, нет то из простого уличного легкомыслия. Я думаю, это было уличное легкомыслие!» 83 Ницше убежден – лгут жрецы с целью положить конец организации, где преуспевает жизнь. «Делать больным – это собственно задняя мысль всей той системы, которую церковь предлагает в видах спасения» 84 .
Суть претензий, выдвигаемых христианству его критиками Ницше и Розановым, выражается в обвинениях в том, что оно выродилось в противоречие с жизнью. Ясно то, что мы не знаем христианства и не понимаем его. Так же очевидно, что христианство, его основные концепты обросли огромным слоем толкований, задающие противоречащие естественной природе человека нормы морали и поведения. И нормы эти прямо или косвенно нацелены на самоуничтожение.
4. Заключение.
Мне представляется, что удалось реализовать гипотезу о взаимном дополнении критики христианства, избежав противоречий. Безусловно, дальнейшее и глубочайшее исследование проблемы и могут привести к ним. Они соприкасаются во взглядах, там, куда мысль философов заводит дальше их намеченных координат. Розанов пишет о нашем непонимании христианства, скорее даже о невозможности выпутаться из паутины лжи и неверных толкований. Ницше приоткрывает кулисы христианского театра и говорит прямо обо всех недостатках этой религии.
В конце своей книги о христианстве Ницше проклинает его: «Это вечное обвинение против христианства я хочу написать на всех стенах, где только они есть, – у меня есть буквы, чтобы и слепых сделать зрячими… Я называю христианство единым великим проклятием, единой великой внутренней порчей, единым великим инстинктом мести, для которого никакое средство не будет достаточно ядовито, коварно, низко, достаточно мало, – я называю его единым бессмертным, позорным пятном человечества…» 85
«С основания мира было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека. Наша русская вся – философия выпоротого человека. Но от Манфреда до Ницше западная страдает сологубовским зудом: «Кого бы мне посечь?» 86 пишет Розанов, навсегда разделяя взгляды Востока и Запада.
В своей критике Розанов остался до последних дней последовательным. По его мысли, христианство есть религия, основанная на идеале смерти. «У меня было религиозное высокомерие. Я «оценивал» Церковь, как постороннее себе. Но пришло время «приложиться к отцам». Уйти в «мать-землю». И чувство церкви пробудилось» 87 Прожив всю жизнь «около церковных стен», он умирает в лоне церкви, во время соборования.
В наше время, рационализм предоставляет разуму право на неограниченное господство; против разума нельзя уже апеллировать ни к какой высшей инстанции. Разум мнит себя абсолютным, и для метафизики в системе рационализма нет места. Для него есть только еще не разрешенные, но не принципиально неразрешимые проблемы. Познание ради материального комфорта. Но мне представляется, что сфера интимных переживаний, души и внутреннего мира человека, с трудом поддается рационалистическому анализу, ведь человек единственное существо способное к абсурду. И место религии, которая взывает к нашим чувствам, вдохновляет и умиляет нас, может здесь «по эту сторону добра».
^ 5. Список литературы
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу
Настоящая статья была написана для сборника « I Russi su la Russia », изданном в Милане в 1905 г., - в памятные дни, когда все в Европе спрашивали с волнением, что такое Россия и русские, что они обещают или чем грозят. В следующем году книга была переведена на немецкий язык (« Russen uber Russland ») и издана во Франкфурте-на-Майне. Но когда мне предложено было написать о Русской Церкви для иностранного сборника, — я писал как бы для русских, просто что видел и что знал о Церкви, не думая нимало об иностранцах. Иностранцам надо видеть то самое, что видим мы. В России статья эта (написанная по-русски и переведенная на итальянский и немецкий языки не мною) появилась в «Полярной Звезде» редакции П. Б. Струве (3-го февраля 1906 г.), — но без последних страниц. Теперь она печатается без каких-либо изменений, в русском оригинале.
В. Р.
С-Петербург,
Русские были крещены в 988 г. при киевском князе св. Владимире от греческого духовенства. Хотя они приняли христианство еще до формального и окончательного разделения Церкви на Восточную и Западную, — однако, так как связи у них были только с одною Византиею, то, по скором отделении Византии от Западной церкви, и русские были уведены из древнего общего христианского русла в специальный поток византийского церковного движения. Или исторически точнее: русские вслед за Византиею вошли как бы в тихий, недоступный волнениям и вместе недоступный оживлению затон 1), тогда как западноевропейские народы, увлеченные за кораблем Рима, вступили в океан необозримого движения, опасностей, поэзии, творчества и связанного со всем этим черным трудом неблагообразия. Разница между тишиною и движением, между созерцательностью и работою, между страдальческим терпением и активною борьбою со злом — вот что психологически и метафизически отделяет Православие от Католичества и
_______________________
1) Так в России называются глубокие и безопасные заливные места в больших реках, куда на зиму становятся пароходы и другие суда, чтобы их не разломало осенним и весенним льдом, при вскрытии рек.
Протестантства, и, как религия есть душа нации, — отделяет и противополагает Россию западным народностям.
Слишком понятно, что крестившие нас греки показались нам столь же необыкновенными по мудрости, учености, по древним связям, почти по самому происхождению, как туземцам Гванагани и Кубы показались спутники Колумба. Младенческий ум русских не отделял существа веры от принесших веру людей. Византийцы сразу же этим воспользовались, стараясь превратить младенческое поклонение в обязательное и суровое повиновение грубого и невежественного народа авторитету их политической, церковной и всяческой мудрости. Долгое время русские, имея уже свое духовенство, свои школы, не смели поставить митрополита из русских: ясный знак фетишизма, перенесенного из религии на племя, из строя церковного на строителей церковных. Византийцы частный повод своей ссоры с папами, именно упреки константинопольского патриарха Фотия папам за некоторые формальные отступления от «Устава церковного» (другой способ печения просфор и т. п.) возвели в принцип, окружили нервностью, придали ему принципиальное значение, и постарались всю эту мелочность поводов разделения привить вновь крещеному народу, новому своему другу, помощнику и возможному в будущем защитнику своей исторической дряхлости. Разлагаясь, умирая, Византия нашептала России все свои предсмертные ярости и стоны, и завещала крепко их хранить России. Россия, у постели умирающего, очаровалась этими предсмертными его вздохами, приняла их нежно к детскому своему сердцу, и дала клятвы умирающему — смертельной нена-
висти и к племенам западным, более счастливым по исторической своей судьбе, и к самому корню их особого существования — принципу жизни, акции, деятельности . Наступил для всей России от 988 г. до 1700 года (реформы Петра Великого) период «Византийского строя», «Византийского влияния», «Византийской уставности».
Дитя-Россия приняла вид сморщенного старичка. Так как нарушение «Устава» папами было причиною отделения Восточной Церкви от Западной, или разделения всего христианства на две половины, то Византия нашептала России, что «устав», «уставность» — это-то и есть главное в религии, сущность веры, способ спасения души, путь на Небо. Дитя-Россия испуганно приняла эту непонятную, но святую для нее мысль; и совершила все усилия, гигантские, героические, до мученичества и самораспятия, чтобы отроческое существо свое вдавить в формы старообразной мумии, завещавшей ей свои вздохи. Как «уподобиться» Византии, — в этом состояло существо исторических забот России в течение более, чем полутысячелетия. И, в конце концов, ведь форма влияет на дух. Россия чем далее — тем глубже «умерщвлялась» и духовно. «Умерщвляться» — это стало не только понятием, идеалом древней России; но это гибельное явление так и называлось этим словом, не внушавшим никаких о себе сомнений, никакого перед собою страха. Для русских «близиться к смерти» и «близиться к святости» до того слилось в единый путь, отождествилось, что даже теперь и даже образованные классы не вполне свободны от этого понятия. Оно есть нравственная и метафизическая аксиома в наших монастырях до сих пор; им проникнут
и теперь весь наш народ в многомиллионной своей массе. Самые образованные люди, как Тургенев, как Герцен, и атеисты, нигилисты — в серьезные минуты жизни вдруг видят в себе возрожденною эту древнейшую, первоначальную веру своего народа: что умереть — святее нежели жить, что смерть угоднее Богу (дли верующих), Высшему Существу (для философов), чему-то (для атеистов), нежели жизнь. Эта грустная и ужасная (по мнению пишущего эти строки) мысль сообщила главный нравственный колорит всей восточной, русской Европе: чего-то меланхолического и погибшего в смысле прогресса, чего-то страдающего и страшно дорогого, чему никто не сумеет помочь. И тем дороже это существо (Россия) и тем страшнее за нее. Матери в деревнях, когда умирают их дети на первом или втором году их жизни, с радостью говорят: «слава Богу, он не нагрешил». Вы испуганы, стараетесь возразить, рассеять «предрассудок», как вам кажется. Но слышите ответ красивой, здоровой, разумной женщины: «Жить — это только грешить; так и в церковных молитвах поется: не может человек единой минуты прожить без греха . О чем же плакать? Мой младенец у Бога ; и нам с вами (т. е. взрослым людям) не будет так хорошо там » (т. е. на небе). Русские люди, как в молодом возрасте, так и в летах возмужалости, когда силы жизни берут верх над смертными началами в человеке, когда практические нужды, служба, работа приковывают ум к реальной жизни — мало посещают церковь, подсмеиваются над церковью, религиею, даже иногда отрицают Бога. Но это — возраст, годы. Самое существо «веры русской» (так называют иногда православие; но «вера русская»
очевидно, шире этого церковного термина) — не молодо, не юно и даже не возмужало; и в эти годы просто человек не находит ничего себе соответственного в храмах наших, в службах, в напевах церковных, в смысле слов, там слышимых, в церковной живописи. Все жизненное, живучее, крепкое земле, преданное труду, надеющееся на людей и их свойства человеческие — не только стерто здесь, но вырвано с корнями; и выброшена за порог церковный самая земля, на которой могли бы укрепить свои корни эти земные лилии. Вся церковь, символически сказать, наполнена лилиями уже не земными, предполагаемо-небесными, как бы сперва умершими и потом воскресшими для какого-то странного, неосязаемого, призрачного существования «там» (на небе, за гробом). Вся религия русская — по ту сторону гроба. Можно сказать, Россия находит слишком реальным и грубым самую земную жизнь Спасителя; она слушает полуоткрытым ухом Его поучения, притчи, заветы. Все это она помнит, но умом на этом не останавливается. Но вот Спаситель близится ко кресту: Россия страшно настораживается, ухо все открыто, сердце бьется. Христос умер — Россия в смятении! Для нее это — не история, а как бы наличный сейчас факт. Она прошла со Христом всю невыразимую муку Голгофы. Но и это еще не все, не главная «сущность русской веры». В Евангелиях мы читаем, как за земною жизнью Спасителя, уже в кратких главах, повествуется о нескольких днях его бытия после смерти и погребения . Он — то является ученикам, то скрывается. Речи более кратки и более таинственны. Речи и явления — все знаменует собою что-то непрямое, какую-то загробную тайну. Вот «русская вера» чрез-
вычайно напоминает эти заключительные главы Евангелия, бледные, не реальные, потусторонние. И русский человек не только глубоко постиг тайную красоту смерти и ползет к этой странной и загадочной красоте: но он и в самом деле умеет с величием умирать, он сам становится прекраснее в болезнях, в страданиях, в испытаниях. И особенно - прямо перед гробом. Например, у русских существует чрезвычайный страх умереть внезапно, скоропостижно, «без чистого покаяния», и наконец хотя отчасти не искупив грехов своих тяжелыми муками предсмертного боления. Точно вся жизнь кажется русским черною, а с приближением к смерти все принимает белые цвета, принимает сияние. Жизнь — это ночь; смерть — это рассвет и, наконец, вечный день «там» (на небе, с Отцом небесным). Итак, в юности и мужестве русские не посещают храмов, учащиеся — часто кощунствуют в них. Но вот эти самые кощунствовавшие люди переходят за 50-летний возраст. Приходят болезни, давно наступили семейные тягости. Богатство или потеряно (частый случай у непрактичных русских, у расточительных русских), или не приобретено — как рассчитывалось в молодости. Дети уже поднялись и, заботясь о себе, мало думают о родителях. Семейная жизнь не крепка и не красива у русских, кроме исключительных случаев. Итак, богатства — нет, слава — не нужна, дети — похолодели. В этом возрасте человек чувствует себя одиноким, ненужным, лишним. Вдруг, зайдя случайно в храм, — он находит здесь все родным себе, в высшей степени понятным, страшно нужным. Храм точно и ожидал этих его 50-ти лет, и еще лучше — 60; ожидал его болезней, сгорбленности, бедности, по-
кинутости родными и друзьями; храм принимает его как друга, как родного, принимает с бесконечною нежностью, заботою, всепрощением за прошлую неправильную жизнь. Тысяча интимных, глубочайших, метафизических нитей оказываются общими у этого старца, всеми покинутого, и у этого храма, который так чтит родина, и вообще он имеет широкое признание и огромную историческую роль. Слабый старик, больной, «лишний», вдруг нашел здесь себе отечество, почти — службу, почти ранг, положение и даже награды!! Всякий человек хочет себе определенного положения, теряется без положения; здесь, в православном русском храме, такие с всемирной точки зрения слабости, как дряхлость, немощь и убожество, как нищета и социальное ничтожество — оцениваются как положительная добродетель, как заслуга перед Богом, как небесное на человеке сияние. Человек, вот уже к 60 годам подходящий, радостно вступает на эту последнюю, незыблемую, исторически признанную (в России) лестницу — и спешит по ней. Он забывает друзей, родных для храма. Театр, зрелища, все веселое — отвратительно для него, «царство сатаны и дьявола», «духовный антихристы». Он нашел Христа — по ту сторону Его, Христова, воскресения. Его манит бледный лик Господа, с неопавшими смертными покровами, которыми Его увили Иосиф Аримафейский и Магдалина. Сам он, этот немощный старичок, немощная старушка, заготовляют для себя все смертное: в особый узелок они укладывают чистое, особо сшитое, широкое белье, в котором завещают положить себя в гроб, — и дешевый деревянный кипарисовый (никогда и металлический) крестик, который, полагая тело
в гроб, ему наденут на шею. Этот узелок со «смертным» русские, отправляясь в дорогу по делам, не забывают взять с собою: на случай смерти в дороге — чтобы не произошло ошибки и не положили мертвого в чужом белье, а не в этом, своими руками заготовленном. И это находит себе отзвук в церкви. Вот человек умер. Женщины (непременно женщины) омывают его (ибо женщиною рожден человек и ею же он должен быть омыт и положен в гроб); надевается на него все «смертное» из которого исключено все богатое, всякое золото или шелк. К гробу зовут монахиню, которая все время, до погребения, и особенно непрерывно всю ночь — читает над ним псалмы Давида, любимейшую народную русскую книгу. Храм высылает золотой парчовый покров на усопшего: ту особенную, только одними священниками во время службы надеваемую материю, которая у нас, на Востоке, также символична и священна, как красный или голубой виссон в покровах на жертвеннике и в одеяниях священников при ветхозаветном храме. Этою священною тканью, в сущности — ризою, одевается в гробу усопший. Никто не говорит, нигде не напечатано, что он — священник теперь. Но мысль наблюдателя открывает дальше, чем сколько смеет сказать устав. Вокруг усопшего ставят зажженные высокие восковые свечи, вставленные в серебряные высланные из храма подсвечники (особой формы: домашних, своих подсвечников нельзя употреблять). Три свечи зажигаются: и при чтении псалмов, среди этих зажженных свеч, особенно ночью, так и кажется, что вот воздвигся около усопшего свой новый временный храм; городской общественный храм, как греческая метрополия — выслал сюда свою колонию. Кто
же главный в нем, кто действователь? где божество, или ангел или бесплотный дух сего временного зажегшегося храма? — Гроб! — Покойники... они живы, они суть, они — действователи в этой таинственной религии шествования к смерти; они умерли — следовательно они как бы «боги» и, во всяком случае, выше, священнее людей! Грек, язычник, всякий сторонний, словом — привычный к многобожию человек, вовсе не знающий ничего о христианстве и единобожии, непременно передал бы так свое впечатление: «у этого народа богов столько, сколько покойников, и сколько вообще есть умерших в их стране; покойники носят одежду как священники и еще как иконы (те же характерные металлические ризы); и перед ними, как только перед иконами — кадят ладаном, читают псалмы и поют молитвы». И это общее пластическое наблюдение, сказав много нового и неожиданного самим русским (ведь не всякий и себя знает), раскрыло бы самое зерно их религиозности и религии.
При этом общем настроении, меланхолическом и гневном к земле, замерло, как бы заморожено было на семь веков песенное и играющее творчество народа-дитяти. Нет танцев около гроба, нет песен над могилою... Быт народный, все цветочки, все листочки на нем обрывались с отвращением сперва греческими монахами, крестившими и начавшими учить Русь, затем — выучившимися у них русскими монахами, и, наконец, священниками, которые хотя и не монахи по форме, но не могут получить сана своего иначе, как пройдя монашескую школу и приняв монашеское настроение, дисциплину, миросозерцание и этику. Вообще, хотя низшее духовенство, т. е. обыкновенные священники, женато в России, и Восток гордится
Даже перед Западом, что не имеет у себя целибата и не отрицает, в лице духовенства, заповеди размножения: однако русское духовенство, и именно это самое женатое, неизмеримо аскетичнее католического; и в поэтическом смысле, а не в смысле чистой физиологии размножения, оно гораздо менее женато, нежели католическое. Странный дух оскопления, отрицания всякой плоти, вражды ко всему вещественному, материальному — сдавил с такою силою русский дух, как об этом на Западе не имеют никакого понятия. В католических самобичеваниях есть все-таки нервы. Тайну русского аскетизма составляет именно безнервность: плач, горе, например по усопшем, по родным, по смерти друга есть порицаемая слабость для аскета, как и бурный гнев на чужой грех, на зло — есть прямо грех, проступок и «падение» святого. Да русские святые никогда никого и не упрекали; так — легкая слеза, легкий упрек в сторону, почти безмолвно, почти только в душе. Например, святой Феодосий Печерский (вскоре после крещения Руси) пришел на один пир великокняжеский и, сев в стороне — заплакал. Когда его спросили, о чем он плачет, он ответил: «братия, я размышляю, будет ли так же весело на том свете (после смерти), как вы проводите весело время на этом свете». Князь и гости смутились и прекратили веселье. Кто здесь был покорнее? Святой князю? Князь святому? Оба лобызали друг другу руку в таинственной взаимной покорности, и святой также боялся (нравственно и деликатно, отнюдь не рабски) своего упрека, как князь своего веселья около изможденного молитвою и постом святого. Вот это и дает образчик характерного русского обращения к другим, влияния, действия, пропаганды: запад-
ные формы, протестантские и особенно католические, у нас немыслимы, невообразимы. Весь русский народ закричал бы «не надо» при виде первого же насилия, первой грубости ино-крещеному, ино-верному. Притеснения бывали и у нас за веру, но никогда — народные, никогда — из толпы. Всегда это были «мероприятия» чиновников, в целях национального объединения, обезличения других народностей; или, в редчайших случаях, это было действиями высшей церковной иерархии, раздраженной и оскорбленной жестокою критикою и часто действительно невыносимыми хулами религиоз-ных «отщепенцев» официальной Церкви. Староверы русские и вообще все русские секты упрекают не только в ошибках и изменах правительственную русскую веру, но иначе и не называют ее, постоянно и громко, как «царством Антихриста». И притом с убеждением и пылом, какого на Западе не сумеют представить себе! Вообще из истории сектантства нужно отметить эту трогательную и нигде еще не встреча-ющуюся черту, что 1) кричат — раскольники, шепчут — православные, 2) бесстрашны — гонимые, всего боятся, робки в слове и действиях — гонители, 3) всего надеются, ко всему рвутся сектанты, пессимистично настроен и боится шевельнуться, сделать шаг вперед или в сторону — представитель официальной Церкви. — Это сообщает самой официальной Церкви до того кроткий и смиренный вид, что, при всем понимании в ней недостатков — ее больно критиковать, хочется все ей простить, со всем примириться, и умереть все-таки православным даже при отрицании почти всего Православия. Это — одна из тайн «русской веры» ? которая вообще и вся состоит из странных психологических и метафизических тайн, нимало не во-
шедших в догматики, которые все скомпилированы с протестантских и католических ученых трудов, и нимало не выражают русского церковного духа и народного религиозного настроения и миросозерцания.
Русские церковные напевы и русская храмовая живопись — все это бесплотно, безженно, «духовно» в строгом соответствии с общим строем Церкви. Богоматерь, питающая грудью Младенца-Христа — невозможное зрелище в русском православном храме. Здесь русские пошли против исторически-достоверного слова Божия: например, хотя Дева-Мария родила Иисуса еще юною, никак не старше 17 лет, однако с Младенцем Иисусом на коленях Она никогда у нас не изображается в этом возрасте. Богоматерь всегда изображается как старая или уже стареющая женщина, лет около 40, и держа на коленях всегда вполне закрытого (сравни с католическими обнаженными фигурами) Иисуса; она имеет вид не Матери, а няни, пестующей какого-то несчастного и чужого ребенка: лицо ее всегда почти скорбное и нередко со слезою, вытекшею из глаза. Вообще Голгофа перенесена в самый Вифлеем и вытравила в нем все радостное, легкое, все обещающее и надеющееся. Никогда не видно в православной живописи (самобытной и оригинальной, распространенной повсеместно) и животных около Вертепа Господня: коров, пастухов, маленьких осликов. Вообще животное начало с страшною силою отторгнуто, отброшено от себя Православием. В сущности, оно все — монофизично, хотя именно на Востоке монофизитство как догмат было отвергнуто и осуждено. Но как догмат — оно осудилось, а как факт — оно обняло, распространилось и необыкновенно укрепилось в Православии, и стало не одною из истин Право-
славия, а краеугольным камнем всего Православия. Все это выросло из одной тенденции: истребить из религии все человеческие черты, все обыкновенное, житейское, земное, и оставить в ней одно только небесное, божественное, сверхъестественное. Так как, в сущности, метафизичнее смерти ничего нет, и ничего нет более противоположного земному, чем умирающее и умершее: то в этой крайности направления Православие и не могло не впасть в какой-то апофеоз смерти, бессознательный для себя и однако мучительный. Отсюда такая искажающая истину тенденциозность, как представление Богоматери почти старухою; таково утверждение, что Богоматерь и «до рождения», и «во время самого рождения», и «после рождения Спасителя» осталась девою, хотя в Евангелии сказано, что она принесла в храм двух горлинок, что делалось еврейками по окончании женского послеродового очищения, и, будучи жертвою за нечистоту этого процесса, не могло быть принесено Св. Девою без него. Да и физический акт родов младенца, все равно, если рождающийся был и Бог, однако же Имевший физическое тело именно младенца, не могло совершиться без нарушения главного и единственного признака девства, именно без разрушения девственной плевы. В Евангелии, при указании принесения в жертву двух горлинок, так и изложено это событие, как совершившееся в обыкновенных человеческих чертах. Но православные неодолимо гнушаются внесением «обыкновенного» в религию: и вопреки тексту Евангелия бурно утвердили так называемое «приснодевство» Марии, т. е. они, в сущности, как бы закрыли ладонью евангельское событие и сочинили на место его другое, свое собственное, чисто вербальное, словесное . В грам-
матике человеческого языка, конечно, никакого нет препятствия выговорить: «пребыла девою в родах». Но от слова до дела — пропасть! Православные, и, конечно, опять только на словах , перепрыгнули через эту пропасть, сочинили свою вербальную концепцию Вифлеема, выжав всякую кровинку из него, все соделав сплетенным из воздуха, фантазии и небылицы, и поклонились своему бесплотному рассказу вместо того, чтобы признать полное реальности воплощение Бога-Слова. Но вот, насколько воздушно и словесно выражено Рождество-Христово, настолько ярко выражены, хотя бы в праздниках и в построении храмов, Успение Пресвятой Богородицы и Покров Пресвятой Богородицы. В России есть множество хра-мов Успения Божией Матери, и русские государи коронуются в Москве в Успенском соборе; самый строгий двухнедельный пост — Успенский же; день Успения Пресвятой Богородицы — один из величайших годовых праздников. Здесь центр события — смерть, слезы. И событие вознесено и объято русским народом с трогательной глубиной и нежностью. Наконец, очень любим праздник Покрова Богородицы (1-го октября) и очень часты храмы в честь Покрова Богородицы: между тем предметом его служит одно из чудес, совершившихся, по преданию, в Константинополе от погружения ризы Пресвятой Богородицы в море. Русские (еще языческие) суда приближались к Константинополю с моря; не имея защиты, цареградцы погрузили чудотворную ризу в море; произошла буря и разметала русские суда. Но здесь с великой силой русское сердце обняло чудо. Чудо, т. е. сверхъестественное, и следовательно опять же отвержение земли, презирание земного порядка вещей — обнято
с величайшей глубиной русским чувством и русским воображением. Русские не боятся чуда. У них никакого нет страха перед ним. Они умиляются на чудо, видя в нем как бы разверзшиеся на человека Небеса: единственное, чему они хотят поклоняться, что считают достойным поклонения. Великие концепции философии, пусть даже религиозной философии, — все это для них не стоящая внимания вещь, как всякое человеческое, обыкновенное, не сверхъестественное. Но, например, по молитве святого больной встал и выздоровел: тогда русский падает на землю и целует прах под ногами этого святого, ибо он увидел здесь манифестацию чего-то не человеческого.
До какой степени все радостное, земное, всякое просветление через религию собственно самой жизни и ее условий враждебно основным тенденциям Православия, видно из глубокой изуродованности семейной жизни у духовенства. Русские гордятся, что у них нет целибата. Но они допустили брак священников почти только арифметически и вербально, только по имени, истребив с величайшей жестокостью все, откуда брак возникает и что его окружает. Брак возникает из любви, — но Церковь не допускает самого слова «любовь», боится и презирает то плотское чувство, «эстетическое восхищение», которое выразилось у Адама при виде сотворенной для него Евы. Русский священник уже приняв сан, не может жениться. Если бы он принял сан священника, не женившись, и потом захотел бы жениться, ему не будет этого дозволено. Таким образом у русских существует целибат же. Но наряду с этой суровостью и сухостью, с этой враждой к семье и браку, Церкви Восточной хочется упрекнуть Западную за целибат и осудить ее за отри-
цание заповеди: «плодитесь, множитесь». Как же этого достигнуть? Построена одна из хитрых византийских паутин мысли, чтобы в одно и то же время отвергнуть и признать, как будто благословлять и вместе с тем ненавидеть: семинарист должен жениться (и это, до самых последних лет, было обя-зательным для всех правилом) в несколько недель, длящихся между выходом из духовного учебного заведения и принятием сана. В эти несколько недель он должен приискать невесту среди духовенства же ближних приходов, и, как никакой любви не может возникнуть сразу, то единственным основанием брака служит гнуснейший и открытый торг о приданом. Священник будущий берет за невестою, смотря по тому, кончил ли он курс в семинарии или в духовной академии, от одной до пяти тысяч рублей, и тщательно выговоренное вещественное приданое, платья шерстяные и шелковые, посуду чайную и столовую, серебряные ложки чайные и столовые (обеденные), мебель и проч. Ни в одном из русских сословий, даже среди полунищего крестьянства, среди мещанства и купечества, не происходит такого грубого торга о приданом невесты, как в духовном сословии. < … >
Договорим о браке священников: обвенчавшись, он спешит к епископу за получением места, и немедленно посвящается в сан священника или диа-
кона. При этом он снимает обручальное кольцо и во всю жизнь не имеет права носить его. Бывают частые случаи, что священник теряет жену в первый же год брака, или на второй, на третий год, и остается с 1-2 малолетками. Хотя Православная Церковь называет себя «матерью чад своих», т. е. всех православных, и хотя она облита слезами скорби, и старается иметь вид жалости ко всем тварям, — она остается черства, тверда и суха к положению этих несчастных священников, не допуская ни под каким видом их до второго брака, не дозволяя взять мать для осиротевших детей, хозяйку для разваливающегося дома. Хотя небезызвестно всем, из посмертных рассказов, да и из свидетельства очевидцев, что с этого именно времени многие священ-ники впадают в запойное пьянство от непривычного одиночества, или предаются картежной игре, или вступают в связь с женской прислугой и с дальними, живущими в дому их, родственницами. Вытекает это из того, что уже и первый брак дан им для того, чтобы иметь повод упрекнуть католиков за безбрачие, но без всякого вовсе чувства брака, сочувствия к нему, поэзии около него.
В силу этого семья вообще у русских стоит невысоко, ибо и для прочих мирян, для всего народа, условия вступления в него выработаны также жестко, сухо, отталкивающе. Все библейское учение о браке вовсе отменено; все библейское чувство семьи и брака вовсе неизвестно в Православии, и, если бы где проявилось — вызвало бы величайшее озлобление против себя.
Из этого общего склада Православия вытекло учреждение обер-прокуратуры при Святейшем Синоде. Первоначально эта должность была учреждена Пе-
тром Великим из опасений соперничества с царскою властью честолюбивых патриархов, чему пример был дан патриархом Никоном. Петр вообще был человек очень сильного воображения, чрезвычайной мнительности и опасливости, переходящей в робость и испуг; таков он был, несмотря на кровавый ореол свой, грозный характер и неукротимую энергию. Хотя Никон боролся против его безвольного («тишайшего», по выражению летописей) отца и все же был побежден, так что, очевидно, никакой патриарх не мог бы одолеть великий в народе авторитет царя, — однако Петра пугали даже тени, даже возможности, и он отменил вовсе патриаршество, учредив на место его так называемый «Синод». Он состоит из собрания 8-10 иерархов, митрополитов и епископов, вызываемых «к присутствованию» указом Государя. А как Государь, поглощенный военными и дипломатическими отношениями государства, да и другими бесчисленными заботами по внутреннему управлению, не имеет, конечно, возможности знать личный состав духовенства, то назначение последнего на места епископские, архиепископские и митрополичьи — происходит по рекомендации особого чиновника, на правах министра, приставленного к Синоду, дабы следить за согласованием действий духовенства с гражданскими законами, и вообще с интересами государства, равно чтобы предупредить всякие попытки честолюбивых духовных особ последовать по пути Никона. В XVIII веке такими чиновниками преднамеренно назначались иногда атеисты или вольнодумцы, любители философии Вольтера и энциклопедистов: дабы они могли холоднее и бездушнее давать отпор особым притязаниям духовенства, и вообще построже за ним при-
сматривать. Эти светские философы были в то же время деятельными чиновниками, добросовестными, трудолюбивыми; и в XVIII же веке они начали выступать на защиту приниженного низшего сословия духовенства, именно священников (семейных) против монахов-иерархов, которые составляют аристократию Церкви. В XVIII веке они мало-помалу заставили ленивое и необразованное монашество заниматься по Крайней мере административно, чиновно делами, до Церкви относящимися. Весь строй церковный стал преобразовываться, сохраняя религиозные формы, в обширное «Ведомство» или «Министерство духовных дел», при чем архиереи (епископы) малу-помалу уравнялись с губернаторами и вице-губернаторами (викарные епископы), а обыкновенные священники стали местными духовными наблюдателями за населением, наподобие становых и квартальных, но только в торжественном духовном одеянии и с правом со-вершать таинства и службы. Движение это усилилось с императора Павла, когда и священники, и епископы - все стали получать награды орденами, как и обыкновенные чиновники. Все это отвлекло духовенство от собственно-духовной стороны и развило в нем все страсти светской службы: искательство у начальства, которым является светское начальство, и жадность к денежному прибытку, который почерпается у прихожан. Но более опасно сделалось положение духовенства и всей Церкви с тех пор, как на должность обер-прокуроров стали восходить люди не только обширного образования, но и сильного религиозного настроения. Таков был состоявший долгое время обер-прокурором Синода Победоносцев. С этой переменою обер-прокуроры сделались не защит-
никами только государства от Церкви, а руководителями Церкви. Не связанные никакими обетами священства, они в то же время являются фактическими главами Церкви, в ее наличный текущий момент. Правда, они не могут ничего прибавить или убавить в догматах Церкви, в сложившемся учении ее, — хотя и об этом можно сказать, что они до сих пор не трогали этих археологических святынь Православия, и прямо никогда не смогут тронуть их. Но, например, от обер-прокуроров зависит назначение профессоров в духовные академии и в семинарии, назначение тех или иных монахов на епископские и митрополичья кафедры, и их вызов в Синод: слишком понятно, что, не покровительствуя прямо таким-то мнениям, таким-то направлениям в богословии, они могут покровительствовать, давать занятия и должности и раздавать ученые и административные кафедры людям, держащимся такого-то , хотя бы еретического, образа мыслей , и подавлять людей противоположного образа мыслей. Хотя до сих пор не было примера, но со временем они могут таким образом оказать влияние и на «сокровищницу древностей» Православия, в составе ли ее догматов и учения, или — обрядов. Наша обер-прокуратура, глубоко сковав, до полной неподвижности, черную, монашескую иерархию, и усиливаясь улучшить положение белого духовенства, имеет характер не столько светского папства в Церкви, в чем ее упрекали очень многие светила нашей литературы, публицистики и науки, сколько скорее смотрителя-врача около слабого больного, около душевнобольного с приступами временного буйства: причем роль ее и полезна, и необходима, а вместе с тем совершенно беспритязательна, ибо обер-прокурор,
этот обвиняемый «папа со шпагою», слетает с должности и заменяется противоположным по первому мановению Государя. Само собою разумеется, что при такой шаткости положения он никак не может походить на папу. Все дело проще, и вместе оно страшнее. «Церковь — не от мира сего», учила о себе Церковь, возлюбив и власть, и ордена, и отличия, а паче всего не пренебрегая деньгами. Глубокая скорбь прошла через душу русскую, в ее идеализме ужаснувшуюся этому двуличию. Тогда, в лице власти, душа русская решила сохранить для народа весь декорум религии, «святую сокровищницу древностей», и в то же время осторожно арестовать или взять в опеку или под присмотр всех этих носителей исторической святыни, дабы они не рассыпали и не растеряли чего, да и вели себя около святыни не соблазнительно для на-рода. О самой же святыне душа русская, насколько волнуется или размышляет, или ничего не думает, или думает, что там в ящиках — пусто; таково мне-ние образованных классов; простой же народ и вообще неразмышляющие взирают с умилением на позолоченные ящики, в которых несут эти святыни, и занимаются рассматриванием их украшений, часто из чистого золота и усыпанных драгоценными камнями. Но, в основе дела — стража, опека. Самое удобное для этого — привычные чиновные ряды, чиновная иерархия, чиновные служебные награды и дисциплинарные взыскания. Едва какой-нибудь епископ начинает вести себя, в личной биографии, соблазнительно, или оказывает сопротивление воле обер-прокурора, или даже настояниям приставленного к нему местного чиновника, секретаря духовной консистории, который назначается обер-прокурором и сносится только с ним, — так
его или переводят на худшее место по службе, т. е. в более бедную епархию, или даже вовсе «увольняют на покой» («на отдых»). Под этим скромным и милосердным выражением скрывается увольнение от должности, т. е. возвращение к состоянию простого монашества. При чем епископ, живший во дворце, получавший несколько тысяч рублей дохода, и перед которым трепетало и склонялось до земли духовенство целой губернии, получает келью (маленькую комнатку в монастыре), без права покинуть ее, переместиться на жительство в другое место, и даже с постоянным надзиранием за посетителями такого отставного епископа, и — скудный монашеский стол. Очень ядовито указывается светскою властью, что ведь монах и «отрекся от всего земного», ему «богатства и свободы не нужно», он «не имеет права желать этого по монашескому обету ». Но умалчивается, что ведь светская же власть и разожгла в этом «монахе», как и во всем образованном (полуобразованном) монашестве все аппетиты власти, почести и богатства. Теперь это выводится из обыкновения, но было все века обычаем, что духовенство белое не иначе встречало приезжающего в епархию (на управление) епископа, как стоя рядами на коленях; и когда он подходил, благословляя их и говоря им трогательные слова из ап. Павла, они в рабском страхе клали седые головы свои на каменный помост церкви — как еврейские рабы перед фараонами на изображениях обелисков и пирамид. Так еще в 1888 году я видел именно эту картину поразившей меня встречи епископа Орловского Мисаила духовенством города Ельца. И этот добрый и простой епископ не искал унижения, но его предшественники, да и весь церковный строй
Православия, склонил старческие выи семейных людей перед входившим в храм 45-летним «ангелом» (монахи в Православии именуются «ангелами земными, небесными человеками»). Не падая до земли, но еще более трепеща, встречается этот «ангел» с обер-прокурором и даже его товарищем: усталым, нервным, заботливым чиновником в виц-мундире, который осторожно наведывается у секретаря местной консистории:
— Этот ангел не пьет?
— Этот ангел не посещает тайно какой-нибудь женщины?
— Взяток не очень много берет? может быть совсем не берет?
И слыша:
— Не берет взяток.
— К попам милостив.
— Довольно учен, по крайней мере — не неуч, — слыша это, представляет его к звезде, которую «ангел» носит с несравненно большим удовольствием, нежели привычный, ординарный, у всех имеющийся нагрудный крест. Но народу этого не видно. И в то время, как священники склоняются перед епископом в рабском страхе, — он, народ, склоняется перед «пастырем и архиереем, видимым олицетворением Христа, чуждым страстей и помышляющим об одном небесном», с чувством богомольного, боготворящего умиления, с чувством восторга. Духовенство наше, особенно в высоких рядах монашества, чрезвычайно любимо, до обожания, до обожения.
В общем, однако, Русская Церковь увядает своим особым способом, по своему особому типу,
повинуясь своему особому закону и траектории полета, как и две другие Церкви, католическая и протестантская. Во многих отношениях она занимает середину между ними. Она более уязвима в своих слабостях, немощах; и менее заслуживает упреков в высотах, в порывах. Ее страдание — углубления, рытвины, тогда как, напр., в католичестве — патологичны именно горы. Но это все равно.
Причина этого в том, что Христианство вообще не космологично — и поэтому не может ни согласовать себя, ни с силою и правом противостоять космологическому знанию человечества, выросшему в форме наук. Увы, «люби ближнего» — никак не отвечает на вопрос о составе света, химических соединениях, законе сохранения энергии. Христианство более и более сходит к моральным трюизмам, к прописям то легоньких, то трудных добродетелей, которые не могут помочь человечеству в великих вопросах голода, нищеты, труда, экономического устройства. Поневоле Христианство занимает только уголок в современной цивилизации, когда в младенческие средние века оно окрашивало и имело силу очернить всю цивилизацию. Цивилизация не то, чтобы не хочет подчиниться Христианству: но Христианство не умеет и не имеет никаких способов и, наконец, отчасти не хочет подчинить себе цивилизацию, по разности категорий, в которых выражены оно (хри-
стианство) и она (цивилизация). У них нет зубчатых, взаимно цепляющихся колес, какими они могли бы захватить друг друга. Христианство вдруг оказалось ограниченным, не всеобъемлющим, не универсальным, когда оно выдавало себя за таковое, и очень долго его принимали за таковое. Ни которая из Церквей и наконец все Христианство не может ответить на самые мучительные вопросы ума, на самые законные требования жизни; самые мудрые из прелатов и епископов, из проповедников и богословов, все же имеют какое-то несовершеннолетие сравнительно с первоклассными учеными, поэтами, агитаторами. Л. Толстой не потому не мог бы подчиниться папе, что он — другой веры, иной Церкви, иного племени; но оттого, что свободное образование Толстого выше, чище, искреннее и основательнее, чем ныне уже искусственное и условное образование папы. То же можно приложить к первым пасторам, к митрополитам. Толстой учится разному 1) у русского мужика, 2) у Шопенгауэра, 3) у Будды, 4) у Мопассана. Все это — естественное и живое дерево, и Мопассан, и Шопенгауэр, и русский мужик. Тогда как папа весь делится на два существа: 1) я его, которое скрыто и мы вовсе не знаем, что же именно в конце концов он думает и знает, и 2) сан его, который очень
много думает по рубрикам своих обязанностей, но все это уже не живое, не настоящее в нем; все это - одеяния, повешенные на манекен, ими скрытый, но одеяния потому только и не падают на пол, что их все же держит собою этот манекен
Живы, энергичны теперь только секты, которые именно в движении поставили себе задачу. Но то, к чему движется каждая из сект, в сущности, содержится в сердцевине уже бездыханного организма. Все секты, протестантские, православные, католические, не имеют ничего нового и оригинального в себе сравнительно с той Церковью, которой они якобы противополагаются, а в сущности — от которой отделились не более, чем сук от ствола. < … >
< … >
____________
В обществах европейских еще надолго останутся так называемые «христианские чувства»: как в доме, где жил человек, еще долго остается «дух его», строй его мысли и чувств, и даже заведенные им «порядки». Но это уже не цельный организм, хотя бы даже в степени «организма (системы) чувств». Христианство сохранится в европейской цивилизации долее всего в виде странствующих афоризмов, прекрасных изречений, великолепных практических и этических «максим» (= правил), и нет никаких причин, чтобы эти прекрасные выражения не исторгали у отдельных
людей и особенно в отдельные моменты их жизни то тяжелые вздохи, то прекрасные слезы. Но это вовсе не то, что основа и фундамент жизни. Основою и фундаментом жизни европейского человечества давно уже служат: 1) экономика, 2) знания (науки). Но где же метафизика? мистицизм? — без которых не обходился ни один великий народ и ни одна великая эпоха.
Может быть, суждено европейскому человечеству выработать свою оригинальную метафизику и оригинальный мистицизм, который выразил бы отношение к Богу лица европейского, между тем как до сих пор европейцы, очевидно, пользовались собственно еврейскими формами отношения к Богу (Библия, апостол Павел). По всему вероятию, сюда войдет много, но совершенно переработанного и бесконечно углубленного, язычества — как в его эллино-римских элементах, так и особенно в германо-славянских элементах. Песни народные, эпос народный — они также хватают за сердце человека. Детские песни, колыбельные песни, бытовые песни — они мотивами своими, и тонами своими, и содержанием своим говорят иногда так же много, как песнопения Церквей. Но они подвижны, живы, прилипают к сердцу человека, свежи и разнообразны, как сама жизнь: и в этом отношении они выше литургий, слишком схематичных и общих, и не отвечающих человеку на скорбь этого часа , на радость этого дня . Но это — только лирика. Спрашиваем еще раз: где же метафизика?
Человек метафизичен по самому существу своему: и если он воспринимает религии, усваивает одну или другую, слушает проповедников, то потому именно, что он раньше услышанной проповеди есть уже исповедник, священник до оформленного священства, и пророк
до оформившегося пророчества. Вот этим-то врожденным метафизическим вопросам человека Христианство и не сумело дать ответа, не только удовлетворительного, но и никакого; и от этого оно угасает. Что такое человек до рождения, и что такое самое рождение? Что такое человек после смерти, и что есть самая смерть? Что такое грех? С чего начинать его, с какого «А»? И каков способ «снятия проклятия, греха и смерти» с человечества? Здесь мы запутываемся еще более. Адам пал потому, что не послушался Бога; неужели дети Адама, все человечество, «искупились» тем, что избраннейшее племя из этого человечества и в царственном граде этого
человечества, в граде священников и пророков, под-няло руку и умертвило...Бога!! Бога ли? — вот вопрос»! По основному воззрению Христианства, было убито именно существо божественное, «Сын Божий»; неужели Отец Его, «Отец наш, Сущий на Небесах», простит нам грехи наши в отношении друг друга, ложь нашу, жестокость нашу, войны наши, вероломство наше потому именно и потому особенно, что ми замучили и умертвили Его Сына? Ведь то особое наказание, какое евреи понесли за смерть Его, наказание отвержения, рассеяния и разорения, — его должны бы понести все народы, целое человечество, если смерть Спасителя имела отношение ко всему человечеству? Не все и евреи распинали Его, а горсть, кричавшая на дворе Пилата: но потерпели наказание все — и жители Вифлеема или Назарета, как жители Иерусалима. Параллельно, если взять планету нашу, которую «искупил» Иисус, то, очевидно, и она должна была быть наказана вся за смерть Иисуса, т. е. во всех частях человечества. Или евреев не надо было всех и сплошь казнить; или уже казни достойно все человечество, и германцы, и русские. «Казни», мы говорим: а ведь начали говорить о «снятии греха, проклятия и смерти». Где же именно оно , это избавление , это облегчение , эта радость и белый свет , будто бы связующийся с Голгофой? Для евреев — гибель, а для нас... чахотка, рак, убийства, грабежи, сифилис. Где же знаки «искупления»? и вообще метафизической перемены в самом бытии человечества? Все — ветхозаветно, даже хуже, чем ветхозаветно: ибо до «искупления» человечества и до проповеди Иисуса в одном небольшом городке, в маленькой стране, нашлись же такие люди, как Мария и Елисавета, как две сестры Лазаря, Мария Магдалина и Самарянка? Нашлось 11 про-
столюдинов с разумом и сердцем Апостолов; и Никодим, и Закхей, и даже все эти, с великим сердцем, прокаженные, слепорожденные, расслабленные, блудницы, мытари! Вот эмпирический материал , который уже ранее Его был и который Иисус нашел готовым в «проклятом» месте: ибо Иерусалим был проклят и обречен гибели после Него. Ну, хорошо. Было за что проклясть Иерусалим, и основать новую религию на развалинах древней. Так может быть теперь мы найдем, в Париже или Берлине, еще Самарянку? еще Иосифа Аримафейского? еще 11 Апостолов? и Марию с Елизаветою? Гомерический хохот, который раздался бы на этот вопрос в ответ, показует, до чего эмпирический человеческий материал, найденный уже готовим Иисусом в Иудее, был выше того, который Он Сам оставил после Себя маленькой планете, с жалким, скорбным и недоумевающим населением.
И, наконец, добро, благо умиротворения и любви, принесенные Им на эту скорбную планетку?.. Как молил за Содом и Гоморру Авраам Бога: «если не достанет до 50 праведников, то неужели тогда Ты казнишь его? если не достанет 40? 30? и, наконец, только 10?» — «Если найду в Содоме десять праведников, то пощажу весь город ради их »; вот решение Божие, решение ветхозаветное . А мы учим, что Ветхий Завет был жесток сравнительно с Новым Но если пересчитать святых лиц, удивительных, трогательных, выше которых не видал мир, в Евангелии, и е. в Палестине во время Иисуса и, так сказать, у ног Его, — то их найдется гораздо более 50! И однако Палестина не была пощажена , хотя и остальные-то ее жители все же не были содомляне, а только верны Моисееву закону о субботе, да «преданиям
старцев», линия которых началась от достойного Ездры. Таким образом смутна для нас не только надежда, что мы «искуплены от греха, проклятия и смерти»: но и какая-либо уверенность, что новозаветная жизнь имеет преимущества перед ветхозаветною, и что даже в зерне всего дела лежит... подвиг любви и милости, Небесного ли Отца к нам, Сына ли Его к человечеству.
Во всяком случае, размышляющие люди имеют причину сомневаться в мессианизме всего христианства , и, следовательно, о лице Иисуса, как Мессии . Наш-то сифилис? регистрация-то домов терпимости? Слишком малые знаки, чтобы Мессия «уже пришел». А войны? крестоносные? за испанское наследство? за австрийское наследство? Слишком малые знаки, чтобы «овца уже легла около тигра»: а между тем именно по этому предсказанию пророка Исаии мы и узнавали Христа. «Вот, когда придет такой , что это принесет: то смотрите, он и будет Мессия». Мы смотрим — и не узнаем!! Да и Сам Он о Себе ничего подобного не предсказал:
«Огонь пришел низвести Я на землю: и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!
«Крещением должен Я креститься: и как Я томлюсь, пока сие совершится!
«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но — разделение .
«Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться , трое против двух и двое против трех.
«Отец будет против сына и сын против отца; мать против дочери и дочь против матери; свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей» (Луки, XII, 49-53).
Таким образом не одна эмпирическая наличность истории Христианства, но и самое учение Основателя его, если сопоставить его с предсказаниями о Мессии, что вот Он «льна курящегося не загасит» и «трости надломленной не сломит», и что с пришествием Его «ляжет овца около тигра», — побуждает многих начать спрашивать в сердце своем: «точно ли Мессиею могли быть высказаны эти предсказания? И с таким очевидным выражением желания, чтобы они исполнились»?
Самый спор Его с Иерусалимом, вращающийся около субботы , нам христианам кажется, будто шел о филантропии , и что вот ей противились злые евреи ; но для евреев того времени и до наших времен оче-видно, что филантропия вовсе не входила сюда никаким элементом, ибо Его спрашивали, почему Он не исцеляет в другие дни , в которые, конечно, Он мог бы исцелить; мог бы еще филантропичнее исцелить в пятницу или в четверг. Для евреев ясно было, что Он борется против «почил Бог от дел своих в седьмый день » и а пусть никакого дела не творит человек в седьмой день каждой недели ». Врачи теперь лечат и в седьмой день — и это хорошо. Но так ли хорошо, что и булочники пекут хлеб в седьмой день? И что лавочники в лавках, и ма-стеровые в мастерских, увы, давно лишены отдыха в «седьмой день». Иисус, который мог бы исцелять и по четвергам и по средам , явно боролся против абсолюта «праздника», и за него вступились евреи по глубокому инстинкту, что стоит потрясти абсолют чего-нибудь, как потрясется и вся эмпирия, на этом абсолюте построенная, т. е. что у человечества, — и у русских, и у немцев, — будет отнято в году 52 дня
абсолютного отдыха. В этом случае, как и вообще во всей концепции евангельской истории, христиане наивны, как дети. «Жиды были злы и убили Иисуса, потому что Он был добр . Но добрый Бог наказал злых жидов: а царство и жребий их передал нам , которые добрее всех народов на земле ».
Тем не менее, все предречения Иисуса оправдались, и некоторые, как о гибели Иерусалима, Он сказал не как волю Отца своего Небесного, но как Свою волю. Предсказал с подробностями столь значительными, что не остается сомнения, что Он проницал в будущее и повелевал векам: «вот, оставляется дом ваш пуст»; «камня на камне не останется от стен сих», «скажут горам: падите на нас! и холмам: покройте нас!» И, наконец, уже приведенное место о «мече и разделении», которое действительно раздирает христианскую цивилизацию, как никакой меч и никакую цивилизацию. Что же это такое? Скажем ли мы, что это доступно было Сократу? Платону? Будде, Конфуцию, Лаодзы, Магомету? Нет — нет: Иисус не просто выдается в ряду их, но Он вовсе не есть то, что ряд этих людей . Иисус не человек, а Существо, и Евангелие есть действительно сверхъестественная книга, где передан рассказ о совершенно Сверхъестественном Существе, и самые события сверхъестественны же. При этом мы разумеем не чудеса Иисуса, которые могли быть апокрифичны или легендарны. Единственное и главное чудо, и притом уже совершенно бесспорное, — есть Он Сам. Даже если согласиться с крайними скептиками, уверяющими, что Иисуса никогда не было и что миф есть самая история, самый сюжет евангельский, то все же отсюда скептики не получат никакой пользы: вымы-
слить такое Лицо, со всей красотою Его образа и непостижимыми Его речами, так же трудно, и невероятно, и было бы чудесно, как и быть такому Лицу. Предположим, что Платона никогда не было, а был кто- то, приписавший ему диалоги, на которых поставлено имя «Платон». Плохая шутка: этот, кто написал их, пусть имя ему будет Сидор, а не Платон, и был он перс, а не грек, все равно — и был как гений Платон , с тем именно содержанием в голове, какое мы приписываем Платону. Ведь мы и все человечество не от того признали Иисуса «Сыном Божиим», что так велели нам апостолы, что это завещали они нам хранить как веру ? но мы сами и волею своею, прочитав речи Иисуса, прочитав нагорную Его проповедь, да и все, все Его речения, восклицаем с Нафанаилом, которому ничего апостолы не нашептывали: «равви! ты — Сын Божий! Ты — царь Израилев». И исповедание Самарянки, и исповедание Никодима, и всего израильского народа, устилавшего одеждами Ему путь при входе в Иерусалим и восклицавшего: «благословен грядый во Имя Господне» — все это есть наше исповедание, без всякого подсказывания и помимо ка-кого либо авторитета для нас самих евангелистов-рассказчиков.
И только когда эти иерусалимляне, с пальмовыми ветвями встретившие Его, завопили под легионами Тита, так удивительно точно предсказанными таинственным Посетителем Земли, сердце наше испугалось, заробело... и все смутилось в уме нашем.
Иисус человеком не был!
Но был ли Он Мессия?
И кто же Он, наконец?
Вот вопросы, которые томят несказанным томлением многие русские сердца. И они так глубоки, так захватывают фундамент всего дела, что ломкий хрусталь исторически сложившихся Церквей — католической, православной, лютеранской — никак не может не хрустнуть просто от самой постановки их.
Европа, цивилизация европейская выросла из Христианства. Даже как спор против Церквей, как «ереси» — она выросла из него же . Высота европейской цивилизации показует, как высоко было Христианство. Воистину, не человек его основал ! Да: но к концу времен выяснились необоримые язвы цивилизации этой; и перед гробом ее, перед саваном ее позволительно спросить: вечно ли это дело, т. е. все-таки Божие ли зерно лежит в основе ее? Священникам, духовенству это невразумительно: они по инерции движутся, куда двигались, говорят, что говорили: языки их ометаллились и уже не могут переменить своего звона. О цивилизации они и не болят, или болят на столько, на сколько она не принимает «их», критикует «их», не повинуется «им». «Мало почета нам », вот вся их скорбь об Европе. Но «почета» было много в средние века, когда им позволяли даже жечь людей, — и они жгли с удовольствием. Все это явно не мессианство . Оставим их. Итак, открылись неисцелимые язвы цивилизации: по этому мы узнаем не божественность зерна в почве ее
Настоящий пламенный исповедник, желая повторить это исповедание, увидел бы, что оно сгорает в самый момент выговаривания его, от уст выговаривающих. От этого выходит, что «впадали в ересь» все «горячо веровавшие»: поразительная черта в Христианстве! Теперь оно еле держится... холодностью, равнодушием! Страшное дело: «стойте, не шевелитесь, — не горячитесь, главное — не горячитесь : иначе все рассыплется», — вот лозунг времен, лозунг религии, Церкви! Но если таково средство, «чтобы не погибнуть»: то не явно ли, что для «исцеления» уже никакого средства нет...
Страница сгенерирована за 0.26 секунд!